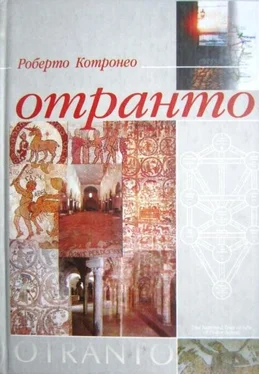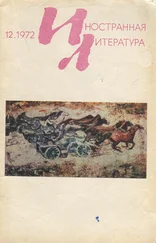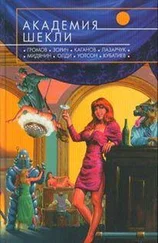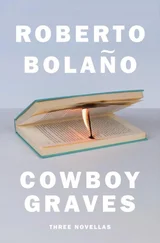Когда мы ездили в Нордвик, чтобы потом отправиться к маяку, я старалась поближе держаться к нему. Не для того, чтобы слышать, что он говорит, а потому, что я боялась этой дороги. Отсюда появился мой предок Джованни, сюда ушла и исчезла моя мама. Однажды, перед отъездом в Италию, я приходила сюда одна. Эту дорогу называют дорогой тюльпанов. Иногда сюда забредают туристы, но мало кто из них доходит до моря. Многие останавливаются на обочине, пораженные невероятным контрастом. Серое небо, подъемные мосты, одни коричневые, другие белые, гармонирующие с небом, которое, по большей части, само приближалось к темному тону домов. В Голландии любят, чтобы тюльпаны росли полянами, как яркие пятна: жёлтые, синие, красные, и даже черные. Но черные насыщенной, блестящей и яркой чернотой, без серо-пепельного оттенка. На этих островках радостного, чистого цвета отдыхает глаз, привыкший к серым, молочно-белым и коричневым тонам, царящим вокруг.
Предки моего отца все происходили с севера Голландии, из маленького прибрежного городка под названием Хинделоопен. Там пейзажи еще темней, чем здесь. Зато в Хинделоопене делают великолепную, ярко раскрашенную мебель. Люди приезжают отовсюду, чтобы на нее полюбоваться. Мебель вырезают и раскрашивают в сочные красные и зеленые тона моряки, которые за этим занятием коротают время в промежутках между плаваниями. Из Хинделоопена торговые суда всегда уходили очень далеко, гораздо дальше, чем с остальных голландских территорий. Они доплывали до Индии, даже до Китая, и возвращались, храня в памяти цвета Востока. Вернувшись, моряки одевали своих женщин в невиданные в этих краях одежды сочных, вызывающих цветов. На фоне темно-серого неба они смотрелись, как яркие цветовые пятна.
Мой отец был сыном моряка, который вырезал диковинную мебель, и его жены, которая ходила в ярких платьях. «Я научился так полировать дерево, что темно-зеленая краска на нем сияла, я научился класть красную краску, как лак», — рассказывал он, гордый своим ученичеством и знанием цветов. Дед, возвращаясь с Востока после долгих месяцев плавания, рассказывал фантастические вещи: «Мне было лет пять. Он рассказывал, как небо на протяжении дня много раз меняло цвета. И я мечтал стать художником и найти коробку с красками, где были бы все оттенки. Однажды я попросил его привести мне краски с Востока. Я был уверен, что у них там совсем другие палитры. Тогда я уже подрос. Я разбирал старые отцовские кисти, которыми он раскрашивал мебель и красил стены, и делал из них кисти поменьше для своих картин. Волоски у старых кистей были слишком мягкие, но тогда ничего другого у меня под рукой не было».
Я никогда не видела деда: он умер в своем доме, много наплававшись на самых разных кораблях и много наработавшись в своей маленькой мастерской с окошком на море. Я тогда еще не родилась, и отец на несколько дней уехал в отчий дом, когда дедушка начал угасать. В отличие от изящного, тонкого отца, дед был высоким и сильным здоровяком. Однако, на тех набросках, что сделал отец после его смерти, собравшись, да так и не написав его портрет, дед удивительно походил на него лицом. Это уже не было лицо здоровяка: осунувшееся, потемневшее, с погасшими глазами. Я нашла наброски совершенно случайно перед отъездом в свое путешествие без обратного билета. Лицо отца, да, пожалуй, и взгляд, были очень похожими. И я подумала, что, прожив жизнь в мечтах о свете и постоянно занимаясь переносом воспоминаний на холсты, он заслужил право на свою отстраненную жизненную позицию. Отцовские глаза вовсе не были погасшими, в них жило беспокойное желание ничего не позабыть, не упустить ни одного оттенка. Судьба так распорядилась, что он родился в местности, где уловить оттенки было трудно, их можно было только вообразить. Дед мой побывал в тысяче разных мест, отец никогда не выезжал из Голландии. Самый долгий путь он проделал из Хинделоопена в Амстердам по тому же верному себе пейзажу. Дед умел вспоминать. Отец фантазировал. Его способность представлять себе освещение была сродни умению уверить всех, и меня в том числе, что он прожил жизнь актера, а не зрителя, что он действительно знал те пейзажи, которые на самом деле видел только глазами мамы. Он женился на ней потому, что нашел в ней ту же самую страсть, только опрокинутую, с другим знаком. Казалось, мама в жизни уже все прожила, это было понятно по ее взгляду на многие вещи. Точнее, это отец старался дать мне понять, когда я спрашивала о маме. Ее исчезновение было для меня страшной болью, но вместе с тем и неизбежностью, предопределенной судьбой, неизбежностью, которая у всех нас читалась в глазах. «Твоя мать не переносила этого освещения, ей было тяжело сознавать, что события могли изменяться, что возможно повлиять на будущее. Она была похожа на моего отца, твоего деда. Для него резка мебели была отдушиной. Потом он уплывал далеко, где все могло случиться. Одним из самых черных дней в его жизни был тот, когда закончили строительство дамбы, этого чудовищного плода трудов нашего народа, длиной в двадцать девять километров и шириной в восемьдесят метров. Она перегородила выход в Северное море. Из окон нашего дома она казалась редутом, построенным для уже проигранного сражения, в котором никто и не думал драться. Дамбу, этот немыслимый ватерпас длиною в тринадцать лет, торжественно открыли в 1932 году с лозунгом: „Народ строит свое будущее“. Отец тогда был еще мальчишкой. Но именно тогда он решил искать свое будущее в море, где нет дамбы, которая отсекает душу».
Читать дальше