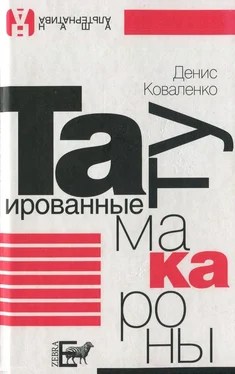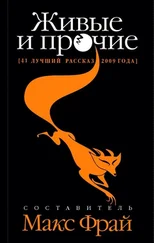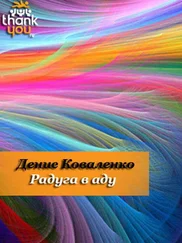«Я запутался… Где она? Где эта женщина?» Цветы все падали и падали, Муся только успевал уворачиваться от них, закрывая лицо от колких сухих листьев и стеблей.
— Отдайте мне моего котенка! — возопил он. — Отдайте мне его!!!
— А-ха-ха-ха! А-ха-ха!!! — дикий злой смех оглушил его; смех рвался отовсюду, словно сами цветы смеялись над ним, кололи, царапали ему лицо и смеялись, заставляя его беситься и чувствовать свою беспомощность.
— Отдайте мне его! — не в силах терпеть это, ревел Муся. — Я не хочу, что бы вы смеялись! Заткните свои пасти!!!
Смех тут же смолк. Белая пустота окружила Мусю. Не было пола, потолка, стены, не было ничего.
— Ага! Заткнулись! — злорадно воскликнул Муся. — Вы никто, ничто; я сильнее вас. Вы ничего не можете мне сделать! — От его крика пустота вновь пришла в движение. Уже беспрепятственно, легко отталкиваясь от цветного плывущего тумана, он двинулся с места. Нужно было найти женщину. Во что бы то ни стало. Только он подумал это, как женщина сама возникла перед ним.
— Я знала, что ты захочешь меня найти, — произнесла она детским, наивным голоском и нежно коснулась пальчиками его лица.
— Снежана?!
— Снегом стать, белым снегом стать, — продолжая трогать его лицо, ласково пропела она. — Тебе нужен твой котенок? Он в тебе. Его глазами ты смотришь на меня… Ты убил его.
— Заткнись, сука! — с размаху Муся ударил ее кулаком в лицо.
— А-ха-ха! А-ха-ха-ха-ха!!! — в ответ знакомый дикий смех. — Ты убил его! Ты видишь меня его глазами! Ха-ха! — злым детским смехом взорвалась женщина. Смех ее будто колотил Мусю, он уже не в силах был терпеть его; это уже был не смех…
Муся открыл глаза и, вскочив, хлопнул рукой по разрывающемуся будильнику. «Котенок!» — мелькнула тревожная мысль. Обернувшись, Муся увидел маленький черненький пушистый клубочек. Котенок тихо, поджав лапки, уткнулся мордочкой в простыню.
— Вот сны, собаки, — облегченно выдохнул Муся и погладил котенка. Котенок не шелохнулся. Нежно взяв его на руки, Муся приблизил котенка к лицу и увидел широко раскрытый ротик и стеклянные безжизненные глазки. Котенок был мертв. — Не может быть! — Муся стал трясти его, гладить, целовать. — Не может быть! — Шептал он в ужасе. — Этого не может быть!.. Я что, получается, задавил его… задушил… Этого не может быть…
Хлопнула входная дверь — отец ушел на работу. Мусин будильник показывал семь часов одну минуту утра.
«Почему все так… сон в руку. Ну, хорошо…» — с этой оборвавшейся мыслью Муся поднялся с кровати, переложил мертвого котенка на подоконник, заправил постель. Взгляд его остановился на белокуром хирурге, внимательно, словно впервые, вглядевшись в картину, Муся странно улыбнулся и вышел в ванную. На кухне громко играло радио, и слышно было, как мама возилась возле плиты. Зайдя в ванную, Муся первым делом вплотную подошел к зеркалу и внимательно посмотрел в него: лицо свое он нашел слишком сосредоточенным; попробовал улыбнуться, улыбка вышла кривой и до отвращения приторной.
— Ну что, Муся, — произнес он с нескрываемой издевкой, — день начался, как и должен начаться Судный день: с твоей смерти — со смерти твоего «я».
«Плюшевый, я плюшевый, я плюшевый, о-о-о», — сладенько разливалось из кухни радио.
Чтобы заглушить его, Муся перевел кран в ванну и открыл воду.
— Я плюшевый, о-о-о, — повторил он безразлично, взял мыло и сунул руки под воду.
От резкой боли он выронил мыло, одернул руки и, близко поднеся их к лицу, пристально осмотрел. Все, как и должно быть: пальцы правой руки и ладонь были изодраны; за ночь царапины слегка подсохли, но не настолько, чтобы защитить от боли. Муся размышлял недолго, нагнувшись, он поднял из ванны мыло и вновь сунул руки под сильный напор теплой воды. Оттого, что он заставил себя, боль меньше не стала; но, заставив себя, переборов, победив эту боль, Муся даже получал теперь наслаждение, наслаждение от победы над ней. Руки и лицо мылись так тщательно, что кое-где из ранок выступила кровь. Не желая пачкать полотенце, он обтерся туалетной бумагой; после, достав из шкафчика, висевшего над раковиной, бактерицидный пластырь, бинт и зеленку, он обработал раны, забинтовал их, заклеил и в таком виде появился на кухне.
— Доброе утро, мама, — поздоровался он.
— Доброе, доброе, — ответила мать, не глядя, ставя на стол чай и бутерброды.
Конечно, по большому счету, как и все женщины, она была добрая, и в той или иной степени, как в каждой женщине, в ней присутствовали все известные добродетели, но то ли она их скрывала, то ли, наоборот, считала, что она и так их слишком открыто выказывает, но, в любом случае, внешне все это выглядело как злоба, самодурство и ревность, особенно ревность. Сказать, что она не любила своего сына или мужа, было бы несправедливо, она их любила, но любовь эта была не жертвенная, а самая что ни на есть эгоистичная. Наорав, накричав, выплеснув всю свою злобу на сына или мужа, позже она ужасно раскаивалась, даже плакала от раскаяния; бывало, что и винила себя после во всем, но это только сначала, дальше раскаяние потихонечку исчезало и, не желая быть во всем одной виноватой, мать реабилитировала себя и, с легкостью, перекладывала всю вину, которую совсем недавно приписывала себе, на сына или мужа. Но, если бы хоть что-нибудь случилось с тем или другим, она просто бы этого не пережила: как раковая опухоль, которая мучит больного, но, доведя его до смерти, умирает вместе с ним и сама.
Читать дальше