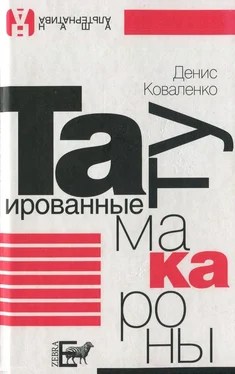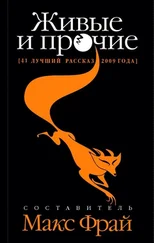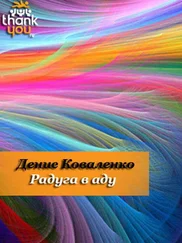— Ты у меня во где сидишь, — Абрамчик постучал ребром ладони по своей холке: — так что учти…
«Вот это я вляпался — расписка, — озадачился Ваня. — Нужно уничтожить расписку и все, и никого убивать не надо, и взрывать не надо… Расписка».
— Рома, дай, гляну, что я там написал, — с опасливой дрожью в голосе («хоть бы отдал, а там пусть убивают»), жалостливо попросил Ваня. Муся отрицательно покачал головой.
— Рома, ну, пожалуйста, — взмолился Ваня. — Я только посмотрю и все, и верну ее. Я только гляну последний раз… вдруг ошибки есть… и сразу пойду школу взрывать. Честно-честно только подержу ее в руках один разочек и сразу пойду взрывать школу… А, ну отдай, сука, расписку! Убью! — заорал Ваня.
Молчавший все это время Макс схватил ринувшегося к Мусе Ваню и с силой отбросил его на землю.
— Мочи пидора! — словно дикарь перед битвой, Абрамчик вскочил на стол, потрясая кулаками, прыгнул на землю и саданул Ваню пинком по почкам. — Мочи пидора! — визжал Абрамчик, всаживая в Ваню глухие пинки.
— Хорош! — рявкнул Макс.
— Бей, бей меня, сука! Убей меня! Не буду я никого убивать, ты меня убивай, я никого убивать не буду! — сжавшись в комок, выл Ваня: — Не буду!
Абрамчик уже не бил Ваню, тяжело дыша, он кругами мерил поляну, бурча тихо:
— Убью, убью, суку.
— Восемь часов, — посмотрев на часы, сообщил Муся. — Пойдемте по домам, кино скоро начнется. Не хотелось бы пропускать… Ваня, ты на Диму не обижайся. Расписка все равно у меня. Ну, что, идем? — поднявшись, Муся еще раз посмотрел на часы.
Итак, Ваня должен был убить своего классного руководителя, учителя биологии, Николая Ивановича — Никаныча. Ненависти, которую испытывали к нему многие из детей, он, Ваня, не испытывал никогда. Порой, ему учитель даже нравился своей мягкостью, своей непосредственностью в общении, даже фамильярностью. Никаныч не был тем деспотом, который орет на учеников, стучит кулаком по столу, отвешивает подзатыльники (вряд ли он был способен на подобное).
Это был очень пластичный, женственный мужчина лет тридцати, среднего роста, худой, с очень острыми чертами лица и маленькими, вдавленными внутрь мышиными зубками. Когда он смеялся, а смеялся он очень часто, манерно запрокинув голову назад, он, словно нарочно, показывал всем, какие у него маленькие, желтенькие зубки с белыми, многочисленными точками пломб. Его манерность, наверное, и раздражала многих. Общаясь, он часто всплескивал ручками, демонстрируя свои длинные, тонкие пальчики, всегда ухоженные, с великолепными наманикюренными ноготками. Порой, вглядываясь в запнувшегося на полуслове ученика, он нарочно театрально вытягивал лицо, при этом округляя маленькие карие глазки. Все в нем было какое-то маленькое, дробненькое, остренькое, длинненькое, и всем этим он всплескивал, притопывал и грозил.
Был ли он действительно гомосексуалистом, никто в классе наверняка сказать не мог, но, как только он открывал рот и начинал говорить, всем как будто кто-то на ухо нашептывал: он же гомик.
Слова он выговаривал протяжно, с претензией на аристократизм, и частенько в его речи проскальзывали выражения: «Да что ты, милочка», «Акстись, родной мой», «Ну, чего ты здесь звездишь?», — и многое еще в этом роде. Но, пожалуй, больше всего в Никаныче раздражало учеников то, что перед уроками он всегда переобувался в свои неизменные черные остроносые туфли, и более того, он менял носки: те, в которых он приходил в школу, он менял на «рабочие», черные, тонкого шелка. Это вызывало недоумение не только среди учеников, но и среди некоторых учителей.
Иногда Никаныч позволял себе пошалить, выкидывая такие номера, какие может себе позволить только шкодливый ученик, но никак не серьезный педагог. Он мог на уроке плеваться из трубочки, сделанной из авторучки, маленькими жеваными бумажными шариками в слишком разболтавшихся детей, и был не против, если ребенок отвечал ему тем же; мог брызгаться водой из шприца, корчить рожи (особенно любил показывать язык), складывать непристойные комбинации из пальцев. Словом, опускался до уровня последнего балбеса и двоечника. Детям это, по правде сказать, нравилось. Исключение составляли крайние радикалы, абсолютно уверенные в том, что он гомик, и считавшие оскорбительным для себя его присутствие в классе, не говоря уже о его выходках. Но этих-то как раз Никаныч и доставал больше всего, видимо, получая особое удовольствие от того, что они злятся, нервничают, а ничего сделать не могут. Несколько раз, заболтавшись с соседом на задней парте, Макс получал бумажным шариком в затылок, вскакивал, в порыве желая врезать этому гомику по рогам, но всегда вовремя осаживал себя и возвращался на место под общее шушуканье, провожаемый острым, ехидным взглядом нашалившего Никаныча. Все-таки, набить рожу учителю на уроке — поступок, на который решиться было непросто.
Читать дальше