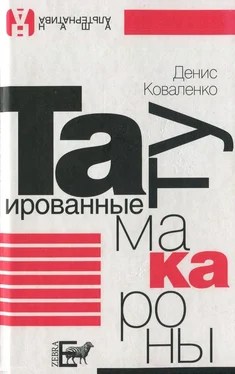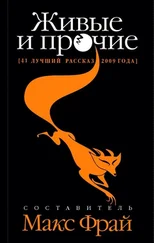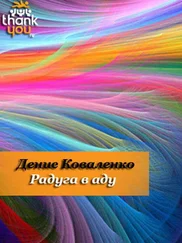Несколько раз у Макса и таких же обиженных возникало желание отловить после школы этого гомика и отметелить его, чтобы он знал свое место, но одними разговорами все и заканчивалось.
Однажды Макс решился поговорить с Никанычем: чтобы тот засунул язык куда следует, и не доставал их больше своими «шалостями». Разговора не получилось, вернее, разговор-то сам состоялся, но не такой, о каком мечтали Макс и другие.
Для пущей важности, Макс начал при всем классе, но начал грубо, неумело, со всей своей детской запальчивостью, часто путаясь в словах, и получилось, что он просто нагрубил учителю, а путно так ничего и не сказал. А хотел ведь предъявить коллективные претензии: дескать, почему вы себе позволяете так себя вести, мы, собственно, не дети, и пришли учиться, а не в бирюльки играть.
С последним заявлением Макс несколько погорячился. Открыв журнал, Никаныч зачитал оценки и посещаемость Быкова Максима, получилось: половина пропусков, остальное — двойки и тройки. Словом, речь Макс собирался сказать серьезную, обличающую, под конец он непременно хотел ввернуть о том, что гомосексуалистам в школе не место. Но ничего обличительного не получилось, и про гомосексуалиста Макс так и не ввернул, и, в конечном счете, выставил себя полным дураком и мальчишкой, совсем ребенком.
Во время его пылкой и вдохновенной речи Никаныч спокойно слушал его, сидя за своим столом и, когда Макс уже исчерпал заготовленный запас обвинений, заметил, как бы невзначай: «Максим, ты меня извини, но у тебя шнурок развязался». Застигнутый врасплох, Макс быстро взглянул вниз и, увидев, что на его ногах туфли и никаких шнурков и в помине нет, дико покраснел, ведь весь класс — тридцать человек — все это видел, и, как оплеванный, под общий гогот, вышел из кабинета. Вечером, конечно, парочка смехачей имели с Максом разговор. Плюс ко всему, Никаныч стуканул обо всем директрисе, и она еще, «к едрене-матрене», отчитала Макса (опять же, перед классом), пригрозила ему, что если, не дай Бог, он еще раз позволит себе подобные выходки или же, не дай Бог, посмеет предпринять еще что-нибудь похожее, она его не только со школы попрет, она его в тюрьму посадит, преступника тупоголового и, как серпом резанула, напоследок: «Ты, Быков, учти, это тебе не вчерашние времена; сейчас с быками, знаешь, что делают — шинкуют, в банку закатывают и пишут: «Говядина».
Марина Ивановна (так звали директора) женщина была матерая и довольно крутая как в словах, так и в поступках.
Так что, если бы Никаныча ночью избили какие-нибудь алкаши, непременно в школе подумали бы на Макса — непременно подумали бы, что если даже это и не он, то обязательно его дружки, обязательно.
Кстати, как учитель Никаныч был абсолютно обыкновенным: двоечникам ставил двойки, отличникам — пятерки, любимчикам делал снисхождение, Максу и ему подобным спуску не давал — все, как обычно: на то он и учитель. Что касается Абрамчика, Муси и Вани, то и здесь было все, как со всеми: Абрамчик, как полный балбес, не вылезал из двоек; Ваня биологию любил и на оценки не жаловался, правда, катышком получал в затылок периодически, и даже скомканным листом бумаги, бывало, получал, особенно, когда уж слишком замечтается, уткнувшись в окно, но, в отличие от Макса, реагировал на это спокойно. Ему это даже импонировало: все-таки лучше, чем на уроке литературы, когда, порой, он так же замечтается, а ему в ухо: «Ты где летаешь, недоносок?» О Мусе говорить нечего, он был невыносимым отличником, случалось, что, если он получал четверку, на перемене он подрисовывал палочку, исправляя «4» на «Н». У всех учителей Юдин Роман был на хорошем счету, включая и учителя биологии.
Ваня жил совсем в другой стороне, чем остальные подростки, но, как ни странно, домой пошел, делая приличный круг, вместе со всеми — через интернат. Впереди всех грузно шагал Макс; Муся и Абрамчик на пол шага отставали; Ваня плелся позади.
С темнотой стало прохладнее. Легко одетые подростки, разгоряченные пивом и игрой, шагали бодро, все, кроме Вани; и плечи они широко расправили, выставляя грудь под легкий, холодный ветерок.
Компания шагала молча, все были заняты своими мыслями. Абрамчик и Ваня нисколько их не скрывали: на их лицах было написано, о чем каждый из них думает. Макс вновь принял усталое, ленивое выражение, и все время, пока шли до интерната, ни разу не обернулся, словно ему было абсолютно неважно, идут за ним эти дети или же растерялись, разбежались — ему было все равно.
Читать дальше