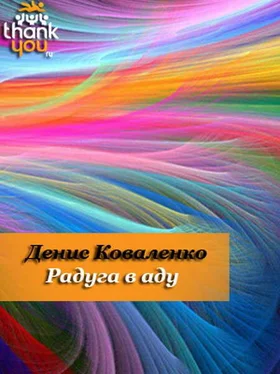— Ты знаешь, что такое полвека быть на руководящих постах, быть партийцем, и ни разу, ни единого разу, не съездить даже в Болгарию. Почему? Да потому что страшно. Страшно, десятилетней девочкой, в холодном вагоне из Украины да на Урал. Страшно, жрать коровью требуху и бояться, что заметят, что ты эту требуху подобрала — сперла, украла. Страшно, когда отец единственный в округе ветеринар, когда он с семьей из Харьковской губернии под Свердловск; и там на жизнь зарабатывал — что коров лечил и резал, за кусок хлеба, а требуху, по-тихому, в кусты, где девочка десятилетняя сидит и требуху, эти кишки — говно коровье — за пазуху и домой, и вот она вся еда — требуха подобранная; а заметят — убьют; потому что нечего требуху народную жрать, попили уже кровушки народной, попили всласть, а теперь власть другая, советская. И до пятнадцати лет твоя бабушка, дочь единственного на округу ветеринара, требуху жрала. И учиться нельзя было кроме — как педагогическое училище; а тогда, детям репрессированных, только в педагогическом и можно было учиться, — вот такая вот странность была у советского правительства: из детей врагов народа учительские кадры ковать. И поступила, и с отличием закончила. И бежала из этого ада, с этого проклятого пропитанного коровьими кишками Урала, домой, на Украину. И страшно, страшно было признать — кто твой отец, твоя семья. Не было отца, не было семьи, сирота ты, взращенная идеями коммунизма. И лучшее место, самое безопасное место, где такой сироте укрыться — НКВД, поисковый отряд возглавить. Когда война, кругом смерть, когда вся Украина в крови, с голода пухла, когда в деревнях старики да малые дети, — а чем их кормить? Кто их будет кормить? Девчонки восемнадцатилетние, которых родители прятали по подвалам, прятали от войны, прятали, чтобы хоть они могли своими ручонками девичьими хоть что-то засеять, что-то собрать; хоть чем-то стариков и детишек накормить. И прятали их. А бабушка твоя находила. Ходила во главе отряда, рыскала по деревням, выискивала этих девчонок — и на фронт — родину защищать. И приказано ей за неделю двенадцать девчонок найти, приказано — иначе, если одиннадцать приведет — к стенке ее, за невыполнение, по законам военного времени. И находила. И боялись ее. Как смерть входила она в деревню, как смерть забирала последнее — ту, которая могла прокормить, ту, которая была последней надеждой — и бабушка — эту надежду, это последнее — забирала. Вот где ее страх был, вот откуда взгляд этот, и сила не женская. И сколько таких как она по Украине было — раздавленных, ограбленных, высланных на Урал, ненавидящих и боявшихся; сколько их таких — в страхе стране служивших, да так служивших, что кровь из носа — чтобы ни один червь не подкопался к ее происхождению. От такого усердия, в тридцать лет девчонки эти черноволосые из Харькова, Львова, Киева, седыми становились — потому как страх. Страх и в партию ее привел, страх и сделал ее такой. Страх заставлял убивать, спасая свою жизнь. А там и война закончилась; а страх-то остался, более того — усилился; и дальше погнал: в МГУ, и дальше — биография была нужна, положение было нужно, вес был нужен. Страх вздохнуть не давал. И уже дипломированный, политически закаленный специалист — вот в это вот провинциальное захолустье — образование поднимать. И ни дай бог, кто узнает — кто пронюхает — что беглая она, ссыльная, репрессированная — она — замзав ОБЛОНО, она — директор школы, она — вдохновитель идей коммунизма, и сама, дочь врага-ветеринара, ставший врагом — что один был на всю округу, что деньги от того имел, что, в конце концов, братья его старшие в Белом движении участвовали, потому как вся Украина тогда красный цвет на дух не переносила, нутро этот цвет ей резал, портянками мужицкими вонял, нищетой москаляцкой. От того и в Болгарии не была она — хоронить надо такую биографию, покрепче хоронить; и ни единого повода рыло свое любопытное, какому-нибудь проверяющему, не дать засунуть. Как с этим жить? А, ведь, жила она, пол века с этим страхом жила, ни на миг не давая ни себе, ни другим повода усомниться. И никто не усомнился, ни один червь. Так-то вот.
С тем и расстались. Отец просил заходить почаще, не забывать его, у них теперь одно общее горе — родной им человек умер, а ничто так не сближает людей, как общее горе.
На следующий день Вадим зашел к отцу. Отец встретил его спокойно. Долго сидели молча, отец на диване, Вадим в кресле.
— Как жизнь? — вдруг спросил отец.
Читать дальше