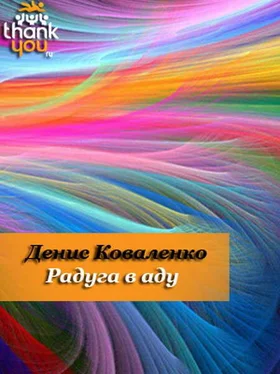— Нет! — в смелом порыве воскликнул Вадим. — Я сам его убью.
— Ты что! — бабушка глянула на него. — Ты что такое говоришь. Как ты можешь такое говорить про отца.
— Убью, — совсем осмелев, повторил Вадим, даже кулачком потряс.
— А может, сын мой и прав, — вдруг вкрадчиво произнесла бабушка. — Может, ты не его сын. Сын никогда так про отца не скажет.
— Что ты, бабушка, — растерялся Вадим, — он же… он же тебя по голове.
— Он болен, — ответила бабушка. — Он несчастный человек. А ты… Как ты можешь… так и об отце. А может, он и прав, — повторила она, внимательно разглядывая Вадима. Волосики жиденькие, светленькие, глаза серенькие, носик вздернут, и, как говорят, картофелиной, сам весь какой-то бледненький, блекленький. Никак он не походил на ее сына-красавца, смуглокожего брюнета с густой шевелюрой. Никак. — И мамаша у тебя, такая же, моль бледная, коротконогая, только задница большая, — все разглядывая его, проговорила бабушка. Вадим ошарашено теперь смотрел на бабушку. Он же… заступиться за нее… он же… а она… — Затащила в постель больного человека. Мамаша у тебя такая, она… ой-й, — вздохнула бабушка, ее повело, крепко вцепилась она в кресло; сидела так, замерев. Поднялась и… шаг, еще, — повалилась на диван.
— Ты не любишь мою маму, ты злая, — Вадим, еле сдерживаясь, сжимая кулачки, только бы не зарыдать, смотрел на бабушку. — Злая! — не сдержался, заплакал. — Злая, злая, злая, — выбежал в прихожую.
— Тоже мне, добрый, — вслед бросила бабушка, — иди-иди, неблагодарный ребенок.
— Я больше к тебе не приду, — заявил Вадим.
— Да нужен ты мне очень.
— Не нужен? — опешил Вадим.
— Не нужен, подтвердила бабушка. — Надо же… сына моего собрался убивать. Да кто ты такой… неблаго… ой-й, — негромко недоговорила она, сморщившись и ладонью накрыв ушибленный лоб. — Уходи. И не приходи больше. Сына моего… убить. Ну надо же, — все приговаривала она с закрытыми, от все нарастающей боли, глазами. — Постой, — вдруг вспомнила она.
— Да, — Вадим заглянул в зал.
— Раз уходишь… Джинсы тогда снимай. Я живу небогато, у меня сын больной. У твоей мамаши двухкомнатная квартира, она у тебя хорошая, я… плохая. Снимай джинсы, я их продам, хоть будет на что хлеба купить, — заключила она чуть живым голосом.
— Ты… ты… — это был позор. Уже не видя ничего от хлынувших слез, стянул он джинсы, бросил. Схватил свои брюки, висевшие на стуле, натянул и… бегом — вон — с яркой ноющей мыслью: «Никогда, никогда я к тебе не приду! Никогда я тебя не увижу… шлюха!»
Это было в июле девяносто восьмого, а в августе бабушка умерла. Умерла в собесе, когда переоформляла льготы. На улице жара, в собесе духота, все нервные; отстояла свою очередь, возмутилась, что нет уважения к старикам, что совсем молодежь совесть потеряла, что… И молодая девчонка, работавшая в этом собесе и уже одуревшая от всех этих дюже совестливых пенсионеров, доставших ее своими нравоучениями и руганью, крепилась, крепилась, и бабушке все и высказала — все. Именно бабушке, именно на бабушке ее терпение лопнуло: достало ее, что ее — ни в чем не повинную девчонку, работающую, как и все, именно ее — эти вредные пенсионеришки, эти злые старухи, именно ее, обвиняют — во всем обвиняют: что пенсии у них маленькие, что и эти маленькие не платят, что оформляй тут, переоформляй… Она-то здесь причем! Ну и высказала — все, первой попавшейся старушенции и высказала, тем более что бабушка рослая, широкая, вида представительного… Жопу себе разъела! И все ей мало! И…Словом, все и высказала. Бабушка рукой за грудь… Да ты, да я, да вы… — и умерла. Шум, крик, «скорая»… Через два дня бабушку похоронили. На похоронах был отец, его двоюродные брат и сестра с детьми, сестра бабушки с мужем и Вадим, и все. Никого больше. Ни лиц, ни речей. И нелепо выглядела эта, всегда суровая женщина с неизменно накрученной вверх копной волос, и, с надетой поверх береткой или строгой шляпкой, — здесь — в белом старушечьем платке с бумажной повязкой на лбу… нелепо. Не узнать было бабушку в этом похоронном одеянии. И никто не вложил ей в руки учебник истории, как мечтала она, а всего лишь маленькую бумажную иконку… Нелепо.
Отец тогда впервые напился. И не напился даже, а один, на могиле, выпил бутылку водки и сидел до темноты, плакал. Он тогда сильно изменился, растерянный какой-то на мир смотрел… некого теперь ему было ненавидеть, некого обвинять.
Вадим на следующий день пришел к нему, отец встретил его удивленно, но приветливо. Долго сидели, отец в кресле, Вадим на диване. Много всего Вадим нового услышал, отец был разговорчив: не было женщины лучше и честнее чем его мама, великий она была человек, великий и несчастный.
Читать дальше