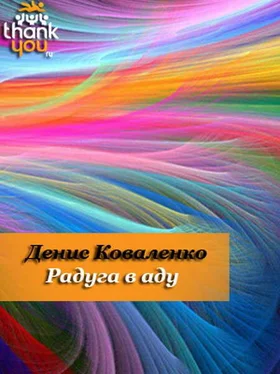Отец жил совсем в другом районе… совсем в другом. Где возле подъездов чистили снег до асфальта, где и асфальта, по сути, не было, все давно выложили плиткой. Центр. Где во дворе было много яблонь и груш, а посреди двора стояла эстрада с новыми лавочками… И много-много деревьев, и все яблони и груши, и вишни еще… Когда-то здесь был частный сектор, дома посносили, а сады оставили, и новые дома построили, теплые дома, основательные дома, советские дома — по старому ГОСТу. Потому как в этих домах, в этом новом дворе должны были жить все сплошь новые люди — лучшие работники соцтруда. А бабушка Вадима, мама его отца, как раз и была тем самым лучшим — работала директором школы, а этажом выше жил заведующий центральным универмагом, а за стеной — начальник заводского цеха, а этажом ниже — буфетчица филармонии, которая еще певицу Пугачеву помнила и рассказывала: «А, Алка, что ли? Помню-помню, шустрая девка была, любила коньячок с моим мужем выпить, тем более, что он, кобель, ее и угощал. А сейчас — вон, какая — певица , — всегда с гордостью вспоминала и добавляла, — не просто так, а Борисовна ». Добрая была эта старушка-буфетчица.
И дружно все жили, как бабушка рассказывала: за солью друг к другу заходили, за спичками и, приходя, оставались на часок чайку индийского попить, поговорить за жизнь. А вечером во дворе собирались; в выходной день киномеханик фильм на эстраде показывал, какой-нибудь идеологический — про завод, а, бывало, что и мультфильмы — тогда весь двор собирался, человек сто, и все — дети. Детишки радуются, довольные, смеются. А за эстрадой папаши их за столиками сидят в домино, в шахматы играют, пиво «Жигулевское» пьют и даже не переживают, не волнуются, что детишки их без присмотра, одни кино смотрят; а что случится? — не украдут же их. И, если все это в мае, то весь двор в бело-розовом яблоневом цвету.
Слушал все это Вадим и не верил. Не верилось, что кино во дворе, что яблони в цвету, и все друг друга уважают и не боятся. И что, если ты живешь в этом районе, то ходи хоть ночью, никто тебя не тронет — главное, назови, кого знаешь из известных хулиганов, и иди себе с миром. Только на чужой район не заходи — отметелят и деньги отберут. А по своему — ходи, сколько влезет, хоть один, хоть пьяный, (это ему сосед, сын буфетчицы рассказывал; очень он тосковал по тем временам, особенно, когда его возле своего же подъезда местные же подростки пьяного поколотили и деньги отобрали, и все молча, без лишних вступлений. «Раньше, первым делом, спрашивали: «С какого района?» — вздыхал он). Неужели так было?
— Неужели так было? — спрашивал маленький Вадим у бабушки.
— Было, — кивала бабушка. — Все было. Все у всех было. И масло и колбаса; в магазинах ничего, шаром покати, а на кухнях у каждого и чай индийский и кофе бразильский, и колбаса московская. В магазин только за хлебом ходили, а если что надо , то все через знакомых. Блат, он был выше совнаркома. И никто не жаловался. И в коммунизм верили, и в Бога, и в будущее верили — по-настоящему верили — потому, как настоящее у людей было.
— Неужели так было? — спрашивал Вадим у мамы.
— У кого было, а у нас ничего не было, — устало отвечала мама. — Бабушка твоя вдвоем с отцом в трехкомнатной. А я с вами двумя в общежитии, девять квадратных метров, электрическая плитка и общий душ на первом этаже; хорошо, хоть унитаз был. — Вадим хорошо помнил это общежитие, и общий душ помнил и электрическую плитку, но помнил он все это без той горечи, с которой это вспоминала мама. Весело жили, много было народу… словом, весело было. Но все равно, у бабушки было лучше; у бабушки телевизор был, видеомагнитофон, телефон был. И главное — бабушка Вадима баловала, часто он к ней в гости приезжал. И она несколько раз приезжала. Раз как-то приехала, все дома были: и мама, и Вадик, и сестра. Бабушка вошла в комнату, рослая, вида надменного, директорского, волосы копной вверх накрученные, осмотрелась. Ничего, чистенько, — заметила; сумку с гостинцами на стол поставила, в сумке конфеты дорогие — шоколадные, апельсины, бананы; за стол села, мама — напротив, Вадим с сестрой на диване устроились. Мама на бабушку испуганно поглядывала, молчала.
— Все мы люди, — сказала тогда бабушка. — Я к тебе с добром пришла. С делом. Ты, Вероника, кончай это, — бабушка говорила без обиняков. — Позорить меня нечего, я свою жизнь честно жила, и живу, — добавила она. — И поживу еще. На работу ко мне не ходи, и в вышестоящие организации тоже. Его он усыновит, — она кивнула на Вадима. — И ты должна помнить эту доброту. А про алименты забудь, он, сын мой, человек больной, с него спросу нет. А я поговорю с кем надо, квартиру тебе дадут. Он, — она снова кивнула на Вадима, — пусть приходит, а с ней, — кивнула она на сестру, — не обессудь. Буду продуктами помогать… может, деньгами. Думаю, ты и за квартиру должна по гроб жизни быть сыну моему благодарна. На этом и хватит. — Бабушка поднялась. Это был последний ее визит. А через полгода, и правда, они въехали в новую двухкомнатную квартиру на самой-самой окраине города, где в поле разбивали новые районы, и дом, куда они въехали, стоял одиноко в поле, а вокруг только подъемные краны и грузовики. Бабушка сдержала слово. Сильные у бабушки были связи. И характер не женский был. До последних дней боялись бабушку: ее рослость, вид суровый, статность — волей-неволей уважение внушали. И не работала она уже директором, обычным учителем была и даже не в школе, в больницу ездила, детишек больных истории учила. И все равно, и тогда у нее связи были еще крепкие, еще достаточные. Такой она была человек, нельзя ей было отказать, невозможно.
Читать дальше