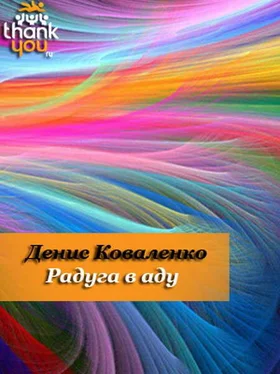После этого Вадим с сестрой месяц не разговаривал. И сейчас, вот, дверь в кухню захлопнулась, Вадим молча поднялся с кресла, оделся, уже в прихожей двумя руками всунул пуговицы дубленки в тесные прорези, нахлобучил шапочку на затылок, как носили все пацаны в их дворе, и, обувшись, вышел из квартиры. Не дожидаясь лифта, бегом— все пять этажей, и — вон из подъезда. «Не нужен, не интересен, — точно подгоняемый этими мыслями. — Не нужен, не…»
— Здорово, Вадим.
— Привет, — кивнул он парню, стоявшему возле белой «десятки» с черными тонированными стеклами, и мягкой щеточкой сметавшему с лобового стекла снег. Снег все еще падал крупными хлопьями.
— Представляешь, Вадим, выхожу сейчас из подъезда, девушка идет и говорит сама себе романтично: «Какой сказочный снег». А я, вот, сметаю его и думаю: «Какой гребаный снег», — и он гыгыкнул и подмигнул. Вадим улыбнулся, хотя смешно ему не было. И знал он, что и девушки, романтически радовавшейся снегу, не было, и… Вадим не любил этого спортивного модника с крашеными волосами, который всякий раз при встрече рассказывал какой-нибудь дурацкий анекдот, выставляя, точно это — случившаяся с ним история. — Да, Вадим, могу тебя подвезти.
— Мне не далеко, — отказался Вадим.
— А то, смотри, — парень игриво подмигнул.
И смотреть нечего. Вадим все это уже знал. Валера, а так звали парня, был до того словоохотлив и доброжелателен, что только Вадим и слышал от него: «Ну, что, пивка попьем, я угощаю», — или, — «могу подвезти». Но стоило согласиться, как Валера хлопал себя ладонью по загоревшему в солярии лбу и внезапно вспоминал: «У меня же дела! Давай завтра. Хорошо? Ну и отлично!» — и был крайне собою доволен.
Но все же, как не крепился, Вадим оглянулся, только на один миг, на эту белую «десятку», на один только миг, только глянуть на нее еще разочек. У него была мечта, давно уже — иметь вот такую же белую «десятку» с черными тонированными стеклами. Он мечтал именно о «десятке». «Мерседес», «Форд» — все это дорого, он это понимал, а вот «Лада» — белая «десятка» с черными тонированными стеклами… Она была прекрасна… такая вся округленькая, дутенькая, гладенькая, и такая вся белая. А внутри… стерео система МР3, салон… нет, не кожаный… хотя, можно и кожаный, колеса с хромированными стального цвета дисками… — он видел ее всю, эту свою белую «десятку» с черными тонированными стеклами… в которую каждое утро садился этот Валера, который и не достоин этой «десятки», и последней ее заклепки не достоин, которому ее купил его коммерсант-отец, который…
— Вы…вы все. Все… — бормотал он, беззвучно выплевывая все эти «вы» и «вы все»; от бессилия хотелось закричать. Крепко утопив в карманах кулаки, сжимая этот сотовый телефон, который он будет должен сегодня потерять … Нет, сестра тогда порвет его… он вообще ничего не знает, ничего не знает об этом ее телефоне, и не видел его, и не знает, и… и… — шагал он, глядя себе под ноги, только бы не видеть этого опостылевшего двора, заставленного автомобилями…
И ни одного приличного деревца, все сплошные чахлые прутики, которые не могли расти на этой земле, в этом дворе, которые если и силились, все равно гибли, изгрызенные этими бестолковыми собаками или поломанные отмороженными детишками, которым так и хотелось пообрывать их беспокойные ручонки, детишками, не могущими пройти мимо и не обломить ветку-другую, чтобы просто ее потом бросить, детишками, которые играли в футбол здесь же, во дворе, как штанги ворот, используя эти крохотные деревца… Вадим ненавидел этих детишек — всех этих неразумных бестолочей, которые только и могли кричать, визжать, жаловаться друг на дружку мамам и ломать эти деревья… Все здесь ему было противно; и детская площадка закатанная в асфальт, вся пластиковая новомодненькая по московскому стандарту — с горками и тоннелями, где все лето, как только ее установили, огородили металлическим заборчиком, на скамейках сидели мамаши, трепались, а детишки — с горки у-ух! — и задницами на асфальт. Один папаша расшевелить всех старался, когда его дочка руку себе до крови содрала, свалившись с этой чертовой-новомодной горки, все к депутатам бегал, чтобы асфальт этот скололи и песком площадку засыпали. Мамаш и папаш, пытался растормошить, подходил к ним, сидевшим на лавочках и семечки поплевывавшим, что, давайте все вместе, письмо коллективное к мэру… папаши и мамаши смотрят на него исподлобья, точно он милостыню, точно три рубля на пиво просит, лица воротят, дескать, ну чего тебе? Одна, только, сказала: Лениво нам. А другая добавила: А, чего — асфальт, нормально — чистенько. Папаша тот, после и в глаза соседям не глядел; зато, на него, как на придурка все поглядывали — нашелся тут общественник . С каким-то злорадством теперь, только вспомнив этого общественника-папашу, глянул Вадим на занесенную снегом горку; да что б они все задницы себе посдирали, все эти детишки, вместе со своими поплевательскими мамашами. Тошно. Все тошно: площадка, мамаши, детишки, машины возле подъездов, и снег — белый в серых квадратах от выбитых ковров; и дома, безликие, раскрашенные в яркие раздражающие игрушечные цвета. Бесконечные десятиэтажки, и белое небо над ними. А за ними — поля… и все. Конец света. Конец мира. Лишь подъемные краны и грузовики, привозящие все новые блоки с черными глазницами окон. И под нескончаемый брех собак, под непонятный чужой говор чужих людей, которых, время от времени, для потехи, избивала местная молодежь, строились, высились новые безликие районы — жилые массивы… И, казалось, так будет всегда: брех собак, чужой непонятный говор, подъемные краны, канавы, и снег, бесконечный белый снег.
Читать дальше