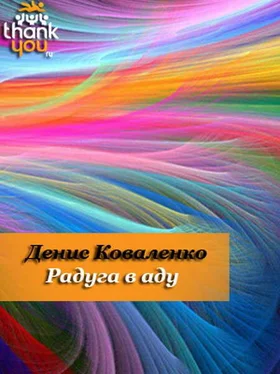Денис Коваленко - Радуга в аду
Здесь есть возможность читать онлайн «Денис Коваленко - Радуга в аду» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Радуга в аду
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Радуга в аду: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Радуга в аду»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Радуга в аду — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Радуга в аду», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Теперь Вадим упрямо уставился в телевизор, где все тот же депутат требовал каких-то разъяснений, и Вадиму очень захотелось расслышать — каких?
— Ты знаешь, как он унижал твою маму? — сестра говорила негромко, но с каждым словом готовая закричать. — Как ты вообще можешь о нем… даже думать , — нашла она слово. — Даже думать, — повторила, — об этом… — Резко отвернулась, схватила пульт… Фигурист срезал депутата; дети в дурацких плодово-ягодных костюмах захлопали в ладоши. — А я томат, — сгнусавил какой-то мальчик, и сестра выключила телевизор, прошипев: — Об этом примате. Как вообще о нем… думать, — вскочив, она вышла в кухню.
Все это Вадим уже слышал, и не раз. Слышал от сестры, но ни разу — вот так вот — от матери. Ни разу мама не сказала ничего об этом человеке, о котором и думать было нельзя, который был его отцом; и был отцом его сестры. «Не был, никогда не был», — говорила сестра. Вадим не спорил. У сестры был аргумент: «Значит, ты ненавидишь маму, раз ходишь к этому… — и еще была угроза, — я маме расскажу». — Пожалуй, последнее больше всего и раздражало Вадима. Сестра всегда начинала ябедничать вдруг и не к месту, это был ее расчет — чтобы эффектнее: когда ужинали или смотрели интересный фильм. Она знала, Вадим оставит ложку, не досмотрит фильм и непременно уйдет из комнаты, или вовсе на улицу; потому, что стыдно , потому, что все это при маме. И пусть — пусть прочувствует . «Оставь ты его», — говорила ей мама. «Оставить?! — возмущалась сестра. — Да он… Да он этим тебя предает, что ходит, что таскается к этому…» «Правда, Вадим, не ходи, не унижайся », — раз как-то сказала ему мама, сказала, когда зашла к нему в комнату и села на край кровати. «А я и не унижаюсь», — буркнул Вадим. «Ну, извини, прости меня», — ответила мама и больше не заговаривала об этом.
«А хочешь, я тебе расскажу, какой он был, когда ему было девятнадцать, — как-то со смыслом и не без злорадства, сказала ему сестра. — Тебе, наверное, это интересно. Конечно же, тебе это интересно. Ты же всегда хотел все знать об отце, ты же просто бредишь им. Для тебя само слово отец… ты же просто в трепет какой-то приходишь от одного этого паскудного слова — отец . Мама раз рассказала мне, не без романтизма, конечно; она же любила… А кого было любить?!.. этого… — она сдержалась; отдышавшись, продолжила. — Конечно, твой отец был не такой, как ты… А может, он и не твой отец, а? Но успокойся, твой-твой, мама врать не будет, наша мама — это… мама. Радуйся, что ты не похож на него. Конечно, приятно быть высоким, хорошо сложенным длинноногим брюнетом, а в девятнадцать лет твой отец был очень красив. Девушки сходили по нему просто с ума. Лицо благородное, смуглое, глаза черные, взгляд цепкий, схватит, и думаешь, что всю душу сейчас из тебя… Так и думаешь. А все внешне! — сорвалась сестра, чуть не до слез сорвалась. — Все внешне!! Твой отец был красивая пустышка — да!! Пустышка, ничего из себя не представляющая. А гонору-то, гонору! Даже на самой шумной вечеринке он усаживался где-нибудь в уголке, незаметный, и сидел так с книгой. И читал. Сидел в уголочке с книгой и читал, когда все, все веселились. Музыка, смех, вино, девушки, а он с книгой в сторонке. Ты только представь это: квартира полна людьми… наконец-то есть возможность повеселиться — по-настоящему, всей толпой. И нет чужих глаз, и не нужно быть паинькой. Можно напиться… Можно… ВСЁ. Девчонки подходят к нему, зовут поболтать, выпить, танцевать зовут. Сами подходят и зовут танцевать… Да другой бы все бросил, все — только за одно это девичье внимание. А он… Музыка, гомон, смех… И в углу, в кресле, сидит… и преспокойно читает какого-то там Пруста или вообще неизвестно кого! Вот, — сестра достала из книжного шкафа книгу Марселя Пруста. — Вот — память от него, даже подписи нет; мама врет, что — подарок, стащила — на память. Это и читать-то невозможно — галиматья, я пыталась, вообще ничего не поймешь, и в тишине не поймешь, не то, что, когда вокруг такое . А он преспокойно это, — она потрясла книгой, — читает. И даже, как будто, понимает все. Лицо спокойное. Главное, лицо спокойное, даже вдумчивое… и без позы, просто — спокойное вдумчивое лицо. Артист! Как же нужно ненавидеть и презирать их всех, чтобы прийти на вечеринку, и, сев в кресло, читать все это, — она вновь потрясла книгой. — Как же нужно ненавидеть людей… А знаешь что, — сестра значительно глянула на брата. — Он их не просто ненавидел, он… боялся их, людей. Боялся вот этой людской радости. Он радости боялся. Он, вообще, шизофреник! — завизжала сестра, — он шизофреник, дурак больной! Ты понимаешь?! — сестра зарыдала. — А ты… ты ходишь к нему. А он… ни разу. Ни разу. Мне было пять, тебе три, ты не помнишь, а я помню; мы с мамой гуляли и его встретили. Так он сделал вид, что не заметил нас. Он прошел, а мама не сдержалась, сказала: «Это ваш папа». Я не поверила, а когда догнала его, он поглядел на меня странно и спросил: «Тебе чего, девочка?» — А я, дура…: «Папа, — говорю, — здравствуй». Он поглядел на меня, потом на маму, на тебя — вы в шагах пяти остановились, — и спрашивает: «Это твоя мама?» — я киваю, улыбаюсь, а он: «Девочка, с тем же успехом ты можешь к любому здесь дяде подойти, и каждый окажется твоим папой», — помахал мне ручкой и пошел себе. Хорошо, я тогда не поняла этих слов. Плохо, что я их запомнила. — Она закусила губу. — Ненавижу его, — прошептала, — а будешь таскаться к нему, и тебя возненавижу. И еще, — произнесла в сторону, — ты ему не верь. — И, уже глядя брату в глаза, — он, только потому так о маме сказал, что у него у самого отца никогда не было, для него все женщины развратны. И, только попробуй, — процедила, и взгляд исподлобья, — только попробуй, — повторила и, точно уже сейчас возненавидев, повернулась к брату спиной».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Радуга в аду»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Радуга в аду» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Радуга в аду» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.