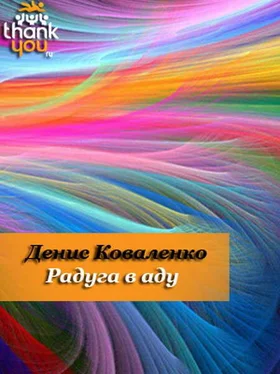К слову, его уже не слушали, парни, зная его способность напиваться и донимать кого-нибудь, махнули на него; Валера уже откровенно тискался со сфотографированной им юбчонкой, остальные вовсе танцевать ушли, и за столом остался Вадим и Дима, лупящий Вадима по колену, треплющий Вадима за волосы, словом, объяснявший ему, в чем корень зла. — Вот он, гвоздь, — вколачивал он кулаком в Вадимово колено, — который мы сами же забили и сами штаны об него рвем, а порой, и задницу. И, вместо того, чтобы этот гвоздь заколотить, — Вадим даже взвыл — Дима от души вколотил ему кулаком в колено, и в плечо еще добавил; когда Вадим решил вскочить, Дима усадил его, а силы в нем оказалось достаточно: — Или вырвать, — Дима вырвал из воздуха воображаемый гвоздь, налил водки, теперь и Вадиму, оба выпили: — Как в свое время и поступили демократические американцы; мы этот гвоздик холим и лелеем, тряпочку подкладываем, убеждаем себя, что они — братья и россияне. И уважать мы должны друг друга, уважать и любить. А полюби-ка меня, захватчика, вот полюби! когда я всю твою семью вырезал, а тебя братом и соотечественником своим сделал, полюби-ка… Вот оттого у нас все и беды, что волками пришли и все ягнятами прикидываемся, своими в доску… да, — вздохнул он. — Они уже сидели в обнимку, Дима наливал, пили, уже и вино все допили, уже Дима достал деньги, на пол рассыпал, вместе поднимали, Вадим, уже пьяный, ушел к бару за коньяком. Когда вернулся, Дима, завалившись на стол, спал. Вадим положил рядом деньги, сверху поставил бутылку коньяка. Какое-то время стоял, уставившись на обмякшее, расплывшееся по столу тело оккупанта.
— А сейчас, — объявил в тишине тот же тонюсенький голос, — для девчонок, Ленусика и Марюсика, от классных парней прозвучит песня «Владимирский централ».
Печальное вступление, пары, печально обнявшись, замялись, нетвердо переступая в такт печально вступившей музыке…
— Весна опять пришла, — запел все тем же голоском певец, правда, очень стараясь придать своему голосу печальную брутальность, соответствующую песне… Певец пел, пары, обнявшись, мялись. И что-то глухо ударило по столу, и звонко отозвались бокалы. Вадим оглянулся.
— Владимирский централ, ветер северный, — захлебываясь слезами, подпевал Дима, лицо раскрасневшееся, размокревшееся от слез, — этапом из Твери, зла не меряно, — уже сдержанно, постукивал он кулаком по столу, — лежит на сердце тяжкий груз.
И все это каким-то нелепым, каким-то… мерзким показалось: и эти пары, обнявшись, мявшиеся в синем гнетущем свете, и сама песня, и голос, певший ее, и Дима, сдержанно рыдающий и отстукивающий кулаком по столу.
Вадим ушел. Спустился к гардеробу, надел куртку и вышел на улицу, где, как и обещал Валера, уже поджидали несколько сгрудившихся у входа автомобилей: и такси, и джип, наверное, тех самых, классных парней, заказавших песню для Ленусика и Марюсика.
Было далеко за полночь. Пешком идти сил не было, да и далеко, да и ноги, отбитые внушительным Диминым кулаком, болели. — Наверняка, и синяки теперь будут, — сквозь печальную, все звучавшую в голове песню «централа», думал он, вернее, произнес вслух; теперь это не пугало его. Он дошел до пустой остановки. — Будет автобус, нет, не важно, — бормотали губы, а взгляд устало провожал проносившиеся мимо автомобили. И в этом виделось что-то нелепое и… мерзкое. Вся эта улица — мутная, блестящая искрами фар, вдруг выскакивающих из морозной пустоты, миг — и уже оранжевые точки, лишь раз блеснув, растворялись все в той же мутной, залитой огнями реклам пустоте. И этот застывший от мороза воздух, сквозь который прорывались эти редкие злые автомобили, так и зыркающие своими белыми глазищами по бугристой узенькой дороге, летом еще бывшей широким проспектом… Как же давно это было… и яблони в цвету, и пиво на лавочке… Нужно идти домой, — голова все еще клевала, хотелось укутаться в дубленку и улечься прямо здесь же, на лавочке… Нужно идти домой, — голова резко вскидывалась, и взгляд провожал очередную машину, выскочившую из морозной пустоты — в морозную пустоту. А может и не будет этих автобусов… Сколько времени-то? Рука привычно полезла в карман дубленки, где всегда лежал телефон. Не было телефона. — Не было, — голова запрокинулась и, вместе с густым морозным столбом, вышло это хриплое: Не было. — И голова упала на грудь.
Все в той же оранжевой мути взбирался он по ступеням, цепляясь за поручни; тело все время норовило свалиться, и ноги — раз, в стороны; шаг, и тело, таки, свалилось в холодное дерматиновое кресло. И голова уперлась в шершавое непроглядное стекло. Теперь не нужен был контроль, ноги, поджатые, сами собой выпрямились, руки сложились на груди… вязкое ленивое тепло приятно покачивалось где-то в глубине, и только руки поерзывали, все уютнее устраиваясь в теплых мягких рукавах дубленки. И даже кондуктор не мешал, пусть треплет… пусть. Все равно, денег нет… все равно. ВСЕ — РАВНО.
Читать дальше