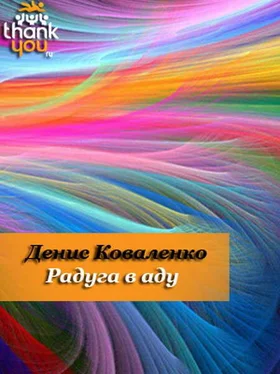— На фига… зачем, — Вадим слушал и не мог понять. Петруху он знал, тот через подъезд жил… нормальный… был парень. В голове не укладывалось.
— Чего тут не понять, — пояснил кто-то, — они же пьяные. Думали, как: если он живой домой придет, значит, заявит. А убьют они его, кто кого искать будет. Ночь, свидетелей нет — так, наверное, и думали.
— Уроды, — сам, наливаясь злобой, процедил Вадим.
— А Петруха женился в прошлом году, жена беременная.
И это негромкое замечание прозвучало, как призыв.
— Все, мочить их надо, — сразу человек восемь круто двинулись к стройке.
— Парни! — остановили их, — погоди, парни, — нашелся здравомыслящий, — а кого мочить, если тех уже менты замели? Кого мочить?
— Всех, — сказал ему невысокий, особенно нервный парень.
Теперь уже шли всей толпой. Самых решительных было немного. Большинство шли — зачем, они сами не понимали. Тех же уже замели, кого мочить? За что? Если только… достали уже эти гастарбайтеры! Кто их сюда звал? И если Петруху вот так вот, то и…
— А точно — чурбаны? Сторожа не русские?
— А какие же? — огрызнулись, — на этих стройках наших нет. Где Петруху грохнули, одни айзеры и молдаване. Я там лично ни одного нормального лица не видел.
— А говорят, сторожа местные, типа, русские.
— Говорят, что кур доят, — отвечали.
Толпа уже обошла дом, прошла мимо продуктового магазина. Когда проходили мимо обувного киоска, возле него как раз стоял и возился с входным замком сапожник-армянин; все его знали, давно здесь работает, и все знали, что армянин он.
— Вот он, сука, — вставил тот самый, нервный, парень, который на вопрос «кого?» зло ответил: «Всех». — В прошлый раз сапоги мне чинил, деньги содрал, а подошва через два дня отвалилась, — помнишь, я рассказывал, — пихнул он своего друга, коренастого крепкого детину. Тот кивнул. — Этот еще, — кивнул парень на армянина, все никак не могущего открыть замерзший замок, — руками разводит: не знаю я ничего, это сапоги у тебя такие плохие. Слышь, ты! — крикнул он сапожнику, — Ну-ка, поди сюда!
Армянин, высокий, худой, еще совсем молоденький паренек, оглянулся. — Чего? — спросил…
— Сейчас узнаешь, чего, — чуть слышно сказал парень, резко подошел к нему и — без слов — кулаком в лицо. Тот только головой чуть повел. — Ты че? — крикнул, и сам, не мешкая, в обратную. Из стареньких «Жигулей», на которых он каждый раз приезжал на работу в свой киоск, выскочило двое, взрослые, крепкие.
— Мочи чурбанов! — толпа пошатнулась — и хлынула, накрыв собою всех троих.
Вадим сам не помнил, как вместе со всеми, лихо работая кулаками, бил куда-то кого-то. Двоих, тех, что выскочили из «Жигулей», уже били ногами, повалив на снег, те только успевали закрывать руками головы. Самого сапожника, каким-то чудом вырвавшегося, гнали человек пять, по колена утопая в снегу, матерясь, к стройке, в поле.
— Помогите! — задыхаясь, проваливаясь в снег, кричал он.
— Сейчас, бля, — отдышливо, вязнув в снегу, отвечали ему.
А мимо, по протоптанным дорожкам шли люди. Люди оглядывались, люди наблюдали. Трудно было сапожнику, снег глубокий, и парням, гнавшим его… ни на шаг не приблизились они. А еще немного, еще пять шагов, и будет протоптанная дорога, уйдет ведь, тогда точно, уйдет.
— Помогите, ‑ звал сапожник.
— Милиция! Вон милиция! — крикнули несколько женщин. Все разом обернулись. Возле обувного киоска — милицейский УАЗик, двое избитых мужчин что-то объясняли милиционерам. Кого-то из подростков запихивали в УАЗик. Двое милиционеров в обход, по протоптанной дорожке, бежали на выручку сапожнику.
— Ну вас, на хрен, — не известно кого матеря, не известно, как вырвавшись, уже шел Вадим, то и дело оглядываясь: он и еще трое парней первыми увидели подъезжавший УАЗик, увидели, и сразу дёру: — Ну вас всех, — отдышливо все матерился он, куда шел — не важно, после определится, главное, подальше, подальше от всего от этого.
День был солнечным, ясным, почему-то только сейчас Вадим заметил это — яркое до слепоты солнце, разве возможно все вот это в такой светлый день? — В голове не укладывалось. А, ведь, если… поймают, кто-нибудь покажет на него, и поймают, и… Нет, — прошептал он¸ ‑ нет, — видя этот искрящийся на солнце снег, повторил: — Ничего не было, только домой сейчас нельзя; когда стемнеет, когда можно незамеченным пройти в подъезд, тогда… а сейчас нельзя. — И ведь сколько народу, наверняка, его узнали. — Черт возьми… какого он полез, в своем-то дворе. Вот, идиот, вот… — стало как-то не по себе. Кураж прошел. Конечно, круто: как он — с левой, с правой, прямой, особенно, когда с правой в челюсть, этот удар особенно хлестко вышел; мысли грели, только… не узнали бы… этого никак не надо, этого… Проходя один из дворов, к слову, чистенький, Вадим невольно загляделся: снег счищен до асфальта, и красивые белые, все в блестках, сугробы, высоко окаймляли припорошенные снегом дорожки. И два негра… Детская площадка посреди двора: горка, качели, скамейки, какие-то люди. Человек десять стоят, переговариваются. И два негра неторопливо, с каким-то ответственным удовольствием, черпали половниками горячую кашу из двух внушительных термосов, и все эти люди, вроде, бомжи… конечно, бомжи, слишком лица особенные; с мисками, степенно, в порядке очереди, протягивали эти свои миски, куда вязко плюхалась каша. Бомжи ели прямо здесь, ели неторопливо, съедали и подходили за добавкой, и вновь в миску вязко плюхалась горячая дымящаяся каша.
Читать дальше