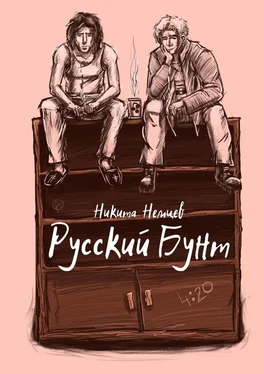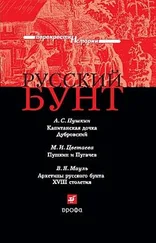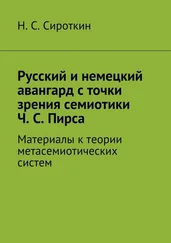Сошёл на случайной остановке (последние полчаса трамвай ехал вдоль трассы). Кажется, я был где-то на юге. Уже ощущая приятную свободу незнакомого района (это была молчаливая Москва), я сделал несколько шагов, разминая озябшие без батареи ноги. Снег сыпался-сыпался — и замечтался.
Прошёл по бульварчику, свернул налево — и взглядом уткнулся в серую, ничем не примечательную многоэтажку: это была бывшая гостиница, в которой располагался теперь рынок (типа восточный), — я был здесь в тысячный раз. В голове (без малейшей причины) закрутилось детским голоском:
Карусель, карусель — это радость для нас,
Прокатись на нашей карусе-ели!
Пришлось перебивать Летовским «Иуда будет в раю».
Плёлся одинаковыми двориками: разумеется, угодил в знакомый парк с оврагом и речкой, свалившейся под заправкой. Это были те же самые деревья. Это была та же самая зима. Один и тот же снег.
Да, в общем-то, плевать.
Утопая в сугробах выше колена, выбрался куда-то: забрёл глубоко во дворы. За облупленной беседкой и бухающими мужиками светились буквы прописью: «Салон красоты Надежда» (и шрифт — такой же, как на нашей вывеске). Я снял шапку и зашёл.
Брюнетка сказала сумрачно: «Пройдёмте». Мне вымыли голову, накинули чёрную мантию, обмотали полотенцем — и усадили в кресло. Я — как всегда — не смотрелся в зеркало и ту́пил взгляд.
Я редко стригся (считал, что память хранится в волосах — они как бы соглядатаи жизни): теперь — сидел, тщательно разглядывая, как состриженные полумесяцы пережитого и потерянного валились на чёрную мантию. Кого-то я когда-то стриг… Кого… Когда…
Серпы валились и валились. Делалось легче.
Наконец-то пришла посылка: её принёс киргиз с радушно округлёнными бровями (похожими на корки арбузов). Шелобей как раз ждал пластинку Polvo «Exploded Drawings» и, не глядя, расписался. Киргиз, не сморгнув, вручил ему гигантский, свёрнутый в подзорную трубу, ковёр, на ворсистой изнанке которого было приписано едва различимым фломастером: «Презент от Толи Дёрнова».
Дотащил до комнаты, расстелил, кое-как, на полу. Вместо ожидаемой фрактальной психоделии, исполненной лучшими восточными мудрецами, внутри оказался гобелен. В точности копируя то граффити с Берлинской стены, где крепко и по-мужски целуются Брежнев и Хонеккер, на этом гобелене взасос целовались Будда и Христос.
Шелобей сидел на полу, сложив ноги йогом, и созерцал.
Таня как раз вышла из душа с полотенцем-чалмой, прошла несколько шагов и уставилась на гобелен.
— Это что это? — спросила она, поскользнувшись взглядом.
— Да Дёрнов прислал, — ответил Шелобей.
— А подпись?
Под слившимися в поцелуе лысым хиппарём и бородатым панком виньеткой повисла строчка арабской вязи. Пока Таня по-собачьи растрёпывала себе голову полотенцем, Шелобей достал телефон, сфотографировал и вбил вязь в переводчик. Он заулыбался:
— Гугл говорит: «И Мухаммед также».
— Я тебя не разбудила?
— Что? Да не.
Шелобей сидел на кухне и читал, когда ему позвонила Лида (ночь: три пятьдесят).
— Ты как? — голос её был хрипл и нежен, будто осенняя фиалка. (Шелобей не мог вспомнить, когда в последний раз она задавала этот вопрос.)
— Ничего. Третий день дома — «Каренину» читаю, Летова слушаю. — Он сидел на табуретке с пальцем в книжке.
— Ты ж Летова не любил?
— Да послушал «Зачем снятся сны» — и врубился. Круто же: «Целая неделя — нескончаемый день… И полгода… И звёздная ночь»… — Шелобей перехватил плечом телефон и раскрыл советский томик. — А ты чего?
— А я с тусы возвращаюсь. Такси мимо тебя как раз ехать будет. Не хочешь прогуляться?
Глаз упал на слова: СМЕРТЬ ЕЁ РАЗВЯЖЕТ СРАЗУ ВСЮ ТРУДНОСТЬ. Сделалось как-то не по себе: мурашки напряглись на руках. На той же странице взгляд сам выцепил — ЖЕЛАЛ ЕЁ СМЕРТИ.
— Д-д-да… Приезжай, конечно. Ты через сколько будешь?..
— Через десять минут.
Отложив телефон, он прикрыл дверь, закурил и попробовал дочитать абзац: и эта, и следующая, и послеследующая страница плыли совершенно мимо сознания… С того казуса на «Флаконе» между Шелобеем и Лидой установились какие-то болезненно нежные, виноватые отношения. Шелобей одновременно и сразу хотел и зацеловать Лиду до смерти, и, рыдая, объявить, что между ними — всё. Чего хотела она — непонятно.
Заметив непонятный револьвер и непонятное самоубийство Вронского, Шелобей бросил делать вид, что читает Толстого. Сидел на табуретке и придумывал: скажет ей так, потом так, а ещё вот так. А Новый год? А то письмо? О! и про Израиль он, конечно, не забудет!!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу