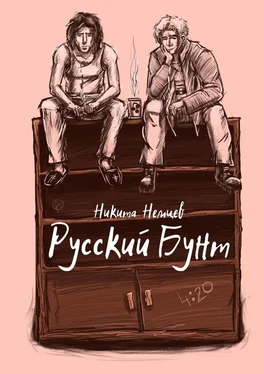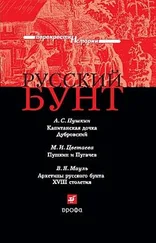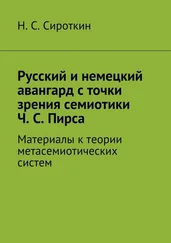Мы всё уже собрали и сидели на кухне (кофе с сигаретой на дорожку): Стелькин был в свитере барда с кармашком на плече, я пил почти прозрачный чай в стеклянной кружке («Да у тебя Москву в чае видно!»). Хрустальная пепельница с бычками походила на дивную ракушку. В обойном невнятном узоре зелёно чудилось что-то неизбывно тоскливое.
— Я тут думал… — начал вдруг я, пристально, прямо в обои. — А ведь если мир — иллюзия, то и выход из него — тоже…
— Иди в универ, — сказал Стелькин резко и прихлебнул.
— В смысле?
— Иди в универ, работать. А то голова засрана говном всяким. Не могу же я великодушно выслушивать всегда? А там рады будут.
— Да я же о другом совсем, Аркадий Макарович! — Я оторопью допил свой чай. — Я уже не верю в это всё. Рай, ад, перерождения — не хочу я этого, хочу просто не быть…
— Ну, я думаю, уж с чем-чем, а с этим проблем в могиле нет.
— Да в этом же ошибка христианства главная: всё решается не там где-то, после смерти, а здесь, прямо сейчас. А этими кругами водит бес…
— Ну, мой дорогой: пройдёшь круг, подрастёшь и уже до следующего перекрёстка дойти можешь.
— И попасть в другой круг! Нет, я совсем выйти хочу, Аркадий Макарович.
— Юность, юность… Всё вам лишь бы свалить из этого мира.
— А сами вы что сейчас делаете?
Стелькин умолк и посмотрел без дураков. Потом накрыл рот рукой и воскликнул:
— Ч-ч-чёрт! Я же совсем забыл зонтик! — Он рассмеялся и убежал.
Всё было собранное — сумка и чемодан. Аркадий Макарович стоял на пороге — в лыжной куртке, шапке-ушанке, уже с разлукой во взгляде.
— Так, жене — не открывать. Почаще проветривай, электричество не жги понапрасну, за газом следи. Если Иоганн, моё творенье ненаглядное, явится, ты его впусти, накорми, а так всякую шалупонь не води особо. Если что — ключи Стриндбергу. — Он открыл дверь в подъезд и запустил холод. — Шелобею передай мои извинения, зря парня обидел. — Он подумал ещё и покачал головой. — Бунт… — штука парадоксальная… — Стелькин улыбнулся и перекрестил меня. — Ну всё, всё, в добрый час.
— В добрый. — Я его тоже.
Дверь хлопнула. Я повернул защёлку и ещё постоял, глядя в пузатый глазок, размывающий Стелькина потешно. Ручка задёргалась истерически — я открыл.
— Графинин, я не понимаю, а ты чего здесь завис? — Стелькин приподнял одну бровь, великолепный. — Неужели ты решил, что я тебе по дружбе хату оставлю?.. А что я в Америке, по-твоему, есть буду?
От Тани поступили сведения, что приходила квартирная хозяйка и очень интересовалась, где, собственно, я (полку, что ли, лишнюю решила на дачу увезти). Я понял, что пора уже мириться с Шелобеем.
Через Таню же выяснил, когда у него репетиция, покружил по «Флакону», выждал час окончания — и спустился в подвал.
Воздух был прокуренный (этот сладковатый запах как бы булочек), а я как раз бросал (подсчитал, что сигарет уже выкурил, больше чем прочёл Отченашей) — от запаха немного помутило (сигарета — маленькая смерть, и я бы очень хотел, но…). Встал туда, где всего лучше видно выход с репбазы. Рядышком стояла распахнутая дверь: на ней простая распечатка на скотче:
Степан Кумиров
Ремонт электрогитар
Починка звукового оборудования
Внутри мужик в майке-алкоголичке и дешёвых сланцах копался в непостижимом нутре электрогитары: жидкий металл разбегался под паяльником, борода была закручена в косичку. Я так загляделся, что не заметил, как Шелобей уже вышел и встал с сигаретой. Я застыл.
Он смотрел длинно и серьёзно (рука с сигаретой остановилась, дым повис), кажется, не очень веря, что я появился здесь всерьёз. Я держал руки в карманах и старался не придать выражения лицу — ни виноватого, ни насмешливого, ни грустного. Смотрели в глаза безотрывно: изредка — моргали. Стояли так до тех пор, пока сигарета Шелобея не прогорела.
Я опустил взгляд и повозил ногой по бетонному полу.
— Стелькин уехал, — сказал я, подняв взгляд; и тут же снова опустил. — В Америку, на Вудсток. Кажется, совсем.
— Встретишь Будду — убей Будду. — Шелобей скорчил улыбку, отщёлкнул бычок и тоже сунул руки в карманы (он стоял в полосатом свитере, а я в куртке; делалось жарко).
Я закачался, сделал несколько шагов, заглянул в коридор (как будто собираясь уходить), дошёл до Шелобея и простецки протянул ему мизинец. Шелобей посмотрел на него. Посмотрел на меня. Не доставая рук из карманов, он нахмурил подбородок и вопросительно кивнул.
— Прости, Шелобей, я виноват, — проговорил я тихо, сжавшись, глядя в его глумливые глаза. — Просто… — Я заходил. — Шелобей, просто понимаешь… — Я смотрел ему строго в подбородок (он снова брился) и лепетал всё без разбору. — Я тебе завидовал. Да, завидовал. Ну, вернее — жалел, что ты как бы… тень, понимаешь? Но тень, в которой всё и начинается. Что ты уже там, а я ещё здесь. Что ты такой талант в гитаре, а от неё отказался. Помнишь, у Цветаевой? «Перстом Себастиана Баха — органного не тронуть эха»… И потому «Безделья и сомнения» эти. Хотя там другое. Я, ты... — с реальностью там вообще хрен знает что творится. А Лида сама — она та же Лиза. Помнишь? Шелобей, ничего не меняется! Вокруг всё тот же Красноярск! — Я был мокрый от пота и смотрел Шелобею прямо в глаза: лицо было отталкивающее, уничтожающее, серьёзное до окаменения, — но глаза его держались сами по себе и уже всё простили.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу