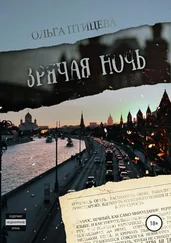Главное, верить, что правду им говоришь. Как на духу верить. Им же надо-то, малость самая, услышать, что закончится все это. Уже закончилось. Подождать только надо. Как сороковина придет, так и не холодно станет, не страшно. Самой ей не ведомо, что там дальше. И думать о том не думается. Что гадать, как придет срок, так и узнает. А пока, сиди себе, кутайся в теплое, встречай гостей, да слушай, как печалятся они по тому, что отболело в них, замерло да выстыло, как изба без печи.
— Ты сама-то как? — спрашивает Сереженька и глядит, и ждет ответа.
Холод пробирается к распухшим ногам. Больно так, что вдохнуть невозможно, но она улыбается. Надо же, спросил, голубчик. Не зря его под полом прятала от отца с ремнем.
— Хворая совсем стала, — меленькие, как крупинки, слезы сами начинают течь из глаз, не были бы солеными, застыли бы на ледяных щеках. — Устала. Сидеть устала, лежать устала, спать устала, не спать устала. Болеть устала. Кабы не соседи, так с голоду бы и померла. Ноги, знаешь как болят? Не встать. Будто кто грызет их. Глаза закрою, а они гудят, выворачиваются. Каждая косточка ноет. Глаза открою, а они пухнут. Лопнут однажды. Почернеют. Так и помру.
Сереженька отрывается от подоконника, распрямляет плечи. Тянется к ней рукой. Синие выцветшие узоры, серые переломанные пальцы.
— Так пойдем, — говорит он. — Баба Люба, пойдем вместе. Вдвоем не страшно будет. Ты старая, святая небось, за меня словечко замолвишь, если спросят. Пойдешь?
Мягонькие детские его волосочки прилипли к влажному лбу. Где-то далеко, в чужой земле, лежит он сейчас, холодный, твердый, отмучившийся. А здесь стоит, как живой. Только за окошком почти рассвело. Еще чуть, и вспыхнет в соседних домах свет — утренний, резкий, пробуждающий, зашумят машины, заголосит, закрутится и начнется по новой еще один день. Еще чуть, и растворится Сереженька в этом свете, в шуме этом, в голосах живых и громких. А она останется.
— Не могу я, голубчик, не проси даже, — отвечает, подтягивая к себе одеяло, пух в нем давно сбился, скомкался, набух от влаги. — Жду я. Володю своего жду.
Сереженька смотрит испуганно, но руку опускает. Полутьма комнаты обступает его, и он в ней серебрится, наполненный новым, пугающим светом.
— Ты иди, милок, дни-то в пересчет у тебя. Не трать их на бабку старую.
Он пятится, задевает стул, но тот остается неподвижным. Топчется у окна, а половицы молчат. Моргает часто, слезы в глазах стынут, а она его почти и не видит уже. Крестит размашисто место, где сидел, молится тихонечко, провожает гостя, как принято, добрым словом да памятью. Хороший был мальчик, как Володенька. Все они хорошими были. А потом раскидало их, замучило. Кого судить? Уж не их.
…И пока она плачет, утирая слезы замусоленным краем тяжелого одеяла, по другую сторону запыленного окна собирается местный люд.
— Баба Люба, — кричит Тамарка из пятого дома. — Живая там? Не померла?
— Не померла!.. — отвечает она.
— Мы тебе хлеба принесли и каши горячей, будешь? — голосит Игнат Петрович с соседней улицы.
— Потом, — отмахивается она, нет пока в ней силы встать, дотянутся до окна, распахнуть его, забрать, что с уличной стороны ей оставили.
— Поела бы ты, Люба, пока горячее, — просит ее Светлана Фоминична, товарка по двору. — Помянуть надо Сереженьку Климова. Телеграмму прислали, девять дней, как умер он. Так и не вернулся домой, голубчик.
Вернулся, думает она, поднимаясь с кровати. И Сереженька Климов вернулся, и Ваня Коляда, и Лизонька Усманова. Все слетаются к старой бабе Любе, куда бы жизнь ни забросила, а на девятый день постучат на крыльце, помнутся на пороге и заходят.
И Володенька ее, сыночек драгоценный, зайдет однажды. Вот с ним она, старая карга, и отправится в главный путь. А пока хлеб да горячая каша. Помянуть Сереженьку Климова. Всех их помянуть.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





![Ольга Птицева - Зрячая ночь. Сборник [СИ]](/books/399654/olga-pticeva-zryachaya-noch-sbornik-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Фаза мертвого сна [СИ]](/books/399655/olga-pticeva-faza-mertvogo-sna-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Брат болотного края [СИ]](/books/399657/olga-pticeva-brat-bolotnogo-kraya-si-thumb.webp)