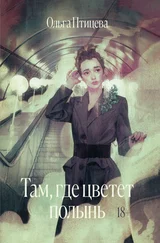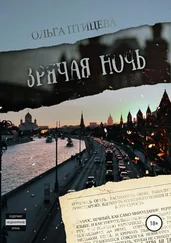Глава первая. В мешок и в Клязьму
Я
— Послушай, тираж к Питеру не отгрузят, — бубнит себе под нос Зуев. Ломает в неповоротливых пальцах слишком хрупкую для него кофейную чашку, молочную на просвет, нежную, будто теменная косточка. — Точно не отгрузят, вот зуб тебе даю.
Мне его зубов не надо. Видел я его зубы. Желтые, крепкие, как у неандертальца. Он весь такой — массивный, странно квадратный, пугающе монолитный. И ничего, не стыдится этой своей неотесанности. Тащит ее за собой, как знамя. Глядите, мол, вот я какой, обычный русский мужик.
Киваю слегка, ровно настолько, чтобы не переборщить с приязнью. Ему хватает. Хищные зубы скалятся, чашка кренится, и кофе льется Зуеву на колени. Элитная шерсть впитывает коричневую жижу неохотно. Зуев чертыхается, подскакивает, ищет салфетку.
Я сижу. Мне кофе не предложили, сразу налили шампанского. Не спрашивая, чего я, собственно, хочу — воды и сэндвич с курицей, пожалуйста. А еще свалить отсюда как можно быстрее. Я обещал Катюше, что буду не позже четырех. Так нет же, всучили бокал.
— Мишенька, это который по счету тираж-то? — подслеповато щурится Анна Михална, местный реликтовый вид литературной мыши, пока Зуев бежит сушиться в туалет.
— Седьмой. — Говорить это куда приятнее, чем я думал, но всякая радость иссякает, если придавить ее гранитной плитой последующих обязательств.
— Седьмой! Божечки! Вы слышали, коллеги? Седьмой!
Коллеги отрывают воспаленные взгляды от экранов, вяло хлопают, утыкаются обратно. Благодарить их можно так же уныло. Можно вообще не благодарить. Но ко мне уже приближается редакторская милочка с лицом, вырисованным настолько тщательно, что и Катюша моя сошла бы за красавицу под таким-то слоем штукатурки. Уровень абсурда настолько велик, что я забываюсь и совершаю роковой промах. Я улыбаюсь. Не милочке, конечно. Короткая юбка на полноватых бедрах, кофточка с катышками на локтях, волосы давно пора резать под самые уши, все равно висят патлами. Чего мне ей улыбаться? Но милочка расплывается в ответном восхищении, краснеет пятнами, смотрит масляно.
— Михаэль, здравствуйте.
Ненавижу. Кто бы знал, как я все это ненавижу. Этих девочек — их глазки-пуговки, влажные ладошки, нежные пальчики, блестящий под слоем пудры носик с крошечными порами, забитыми по́том и пылью. Но больше всего я не выношу того, как они ко мне обращаются.
Глубокий вдох, чтобы грудь поднялась, натянула свитерок, потом долгое «ми» на выдохе, и снова вдох, чтобы получилось «ха», а следом бесконечное «э-э-э» и финальное «ль», так, чтобы я увидел, как розовый язычок скручивается за передними зубками, отбеленными до фатальной тонкости эмали. И каждая думает, что делает это особенно чувственно и глубоко. И каждая рассчитывает, что я, услышав такое к себе обращение, рухну на пол прямо к ее ногам, всунутым в потертые туфельки из кожзама. Но мимо. Пол остается без моего бренного тела, а милочки уходят восвояси, прижав к пылкой груди подписанную книжечку — на долгую память такой-то барышне от Михаэля-мать-его-Шифмана. И карнавалу этому нет ни края, ни конца.
— Михаэль, — повторяет милочка. — Я знаю, что вы ищете редактора…
Я смотрю поверх ее макушки и почти не слушаю. Дверь мужского туалета распахивается, Зуев вываливается в коридор и шагает по нему неспешно и увесисто. Был бы рядом стакан, вода в нем пошла бы рябью. Но шампанское я уже допил, а бокал тут же подхватили и унесли, — не дай бог устанет рабочая кисть, и золотая антилопа перестанет генерировать контент.
— Я закончила Шолоховский, три года работала с переводными авторами, потом уже перешла к русским, ни одного нарекания, хорошие продажи, вот, посмотрите! — щебечет милочка и сует мне какие-то листы, а все кругом смотрят на нас со сдержанным интересом.
Я наконец понимаю, что ситуация вышла из-под контроля. Милочка совсем раскраснелась, лоб покрывается каплями пота. Мне хочется смахнуть его, почувствовать чужой стыдный жар, соль и горечь публичного унижения. Я стискиваю угол стола, качаю головой, и милочка замолкает.
— Кого я ищу? — Стараюсь не сорваться на желчь, но выходит ядовито.
Воцаряется тишина. Даже въедливый стук по клавишам замолкает. Только Зуев продолжает топать по коридору. Он уже в дверях, он готов спасти положение, но милочка кашляет и бормочет:
— Кого? Ну, редактора… Агента. Я не знаю. — Еще чуть, и она заплачет. — Мотиватора? Помощника? Друга?.. — Теперь яркая помада на ее онемевших от страха губах лишь подчеркивает мертвецкую бледность лица, и вся она — скорее панночка, которая померла, чем та сочная дивчина, что шла ко мне вдыхать «ми», выдыхать «ха», тянуть «э» и перекручивать «ль».
Читать дальше




![Ольга Птицева - Зрячая ночь. Сборник [СИ]](/books/399654/olga-pticeva-zryachaya-noch-sbornik-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Фаза мертвого сна [СИ]](/books/399655/olga-pticeva-faza-mertvogo-sna-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Брат болотного края [СИ]](/books/399657/olga-pticeva-brat-bolotnogo-kraya-si-thumb.webp)