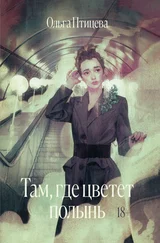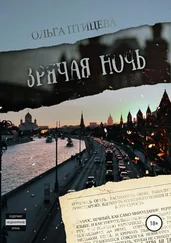Мы кружимся у старого зеркала. И материнская — неубранная, запыленная по углам — комната растворяется, оставляя лишь нас. Я — голый, щуплый пятнадцатилетний пацан с первыми волосками на подбородке, и оно — платье, которое я выбрал этим вечером.
Пальцы подрагивают, когда я тяну вниз застежку, а сам трясусь в ознобе, проскальзываю внутрь манящей прохлады и гладкости. Одно мучительное мгновение борьбы — и вот я в нем. С легким шелестом подол опускается к ногам, скрывает их нелепую худобу, кривизну и волосатость, даже корсаж садится ладно. Я в пятнадцать почти догнал уже матушку, и мы с ней неуловимо похожи, только в бедрах она шире, но длинный подол и это скрывает, слава тому, кто его придумал.
Я правлю штрихи — рукава, вырез, пояс, — и наконец смотрю на себя. Нет, не на себя. В деревянной раме кто-то другой. Другая. Высокая, худая до костяной белизны красавица времен Чехова. Короткие волосы только добавляют сходства. Синий шелк делает меня трагичнее: глаза — глубже, черты — тоньше. Острый росчерк ключиц поднимается над вырезом, благо, мама не может похвастаться дородным бюстом, так что платье не висит на мне и там. Я красив. О, как я красив. Я улыбаюсь себе и зеркалу, в котором прячется она, в котором отражаюсь я. Это моя минута. Наша с ней. Никто не отберет. Мне пятнадцать, я в шелковом платье, я красив, я всесилен. Я счастлив.
Но время утекает, возбуждение сменяется страхом, да что там — ужасом быть пойманным. И я срываю с себя платье, комкаю его, втискиваю на вешалку, захлопываю дверцу шкафа и убегаю к себе.
Мать убьет меня, если увидит таким. Точно знаю, что убьет. Одним ударом повалит на пол и забьет ногами, а когда притихну, опустит на висок что-нибудь тяжелое, подсвечник, например. Проще некуда. Я люблю представлять, как она это делает. Придумываю способы. Решаю, куда она спрячет тело. Станет ли переодевать? Станет, конечно. Сорвет платье, но повесит в шкаф аккуратно, дорогая вещь — не фунт изюму. А дальше? В мешок и в Клязьму? Вариантов мало.
Сейчас я лягу на диван — голый, липкий, дрожащий, — и буду вспоминать, как смотрела на меня незнакомка из зеркала, как ласкал ее шелк, как щекотало кружево. Сейчас я расскажу Катюше. Если мне пятнадцать, то она живет в моем телефоне. Мы обмениваемся голыми буквами. Ни тебе стикеров, ни тебе фоточек и голосовых. Буквы. Чистые буквы на мигающем экране. Привет. Привет. Как ты? А ты? Снова достают? А тебя? Ты держишься? А что? Ты держись, если ты не удержишься, то и я нет. Так я держусь. Хорошо. Хорошо. С ней так просто, с моей Катюшей. Не нужно врать, юлить, выдумывать. С ней так спокойно. Мне пятнадцать. И я уже могу написать ей.
«Я опять это делал».
«Расскажи!»
«Не могу, не знаю таких слов».
«Тогда я угадаю. Ты сегодня был в шелке, да? Синем, правильно?»
Ты каждый раз угадываешь, радость моя, ни разу не ошиблась. Ты со мной. Мне пятнадцать, я был в мамином платье, а теперь я голый, липкий и дрожащий. Но ты рядом.
— Миша! Миша мой, Миша… Тихо, я рядом, — шепчет Катюша.
И та в мамином платье, что уже не я, окончательно гаснет. Но где-то же она остается, ведь остается же? Шкаф надсадно скрипит, пока я выбираюсь из него, пока прикрываю дверцу — осторожно, чтобы не защемить подолы и рукава. Катюша стоит на пороге, смотрит пристально. Не осуждает. Она вообще не умеет осуждать. Злиться — да, пакостничать, ныть, раздражаться и раздражать, настаивать, давить, выпрашивать, ворчать и скрипеть. Но никогда не осуждает. И это оправдывает любой глагол, ей подвластный. Я подхожу ближе, от меня пахнет тяжелым парфюмом, от нее — сонным теплом. Я наклоняюсь, осторожно приподнимаю ее изумительное лицо за острый подбородок и целую. В эту секунду я влюблен. Нет, не так. В эту секунду я люблю ее всем собой. Всем, что имею.
В эту секунду я целен. И спасен.
Тим
Договорились они на семь вечера, а семь в конце сентября — это уже почти вечер, густые сумерки, предвестники скорых морозов. Тим вышел из метро, проскользнул в щель между тяжелой дверью и железными воротами. Аллейка, что отделяла станцию от дома, тянулась метров пятьсот. Летом одуряюще пахла сиренью, зимой промерзала до хрусткой корочки на плитках, в сентябре же была абсолютно безликой, сероватой, подсвеченной рассеянной желтизной фонарей.
Тим шагал по плиткам, стараясь не наступать на границы стыков. Детская примета, но стоило промахнуться и опустить-таки ногу между двумя плотно прилаженным шершавыми краями, как внутри становилось тревожно.
Читать дальше




![Ольга Птицева - Зрячая ночь. Сборник [СИ]](/books/399654/olga-pticeva-zryachaya-noch-sbornik-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Фаза мертвого сна [СИ]](/books/399655/olga-pticeva-faza-mertvogo-sna-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Брат болотного края [СИ]](/books/399657/olga-pticeva-brat-bolotnogo-kraya-si-thumb.webp)