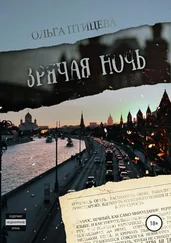Так упоительно представлять. Вот мы лежим на полу и смотрим в потолок. К нему приклеены звезды, они поблескивают в сумерках. Мягкий овал живота смотрит вверх. Ты гладишь его привычным жестом. У нас было столько месяцев, чтобы привыкнуть. Чтобы приклеить звезды. Чтобы всему научиться. Звезды падали с потолка, пока я лежала у табуретки, а ты смотрел на меня сверху, далекий титан, державший мой небосвод, но не удержавший.
Так упоительно представлять. Вот я сбегаю от тебя и еду к маме. Вот я пишу тебе каждую неделю. Проживаю отрицание, торг, гнев, депрессию. И принимаю все, как есть. Я стригу волосы, покупаю цветное шмотье. Хожу в кино. Ем вафли с кремом. Пишу стихи. Не пишу тебе. А потом мы встречаемся где-то на улице, совершенно случайно. Года через три. И вот мы уже лежим на полу и смотрим на потолок. А ты гладишь мой набитый новой жизнью живот. Титан, удержавший небосвод.
Так упоительно представлять. Вот я выхожу после Углича. Тетка провожает меня туманным взглядом поверх Евтушенко. Темнота обнимает холодом и далеким шумом. Я жду, пока двери закроются, и поезд дернется, поползет дальше, в город, где никто, даже мама, меня не ждет. Я поднимаюсь на мост, он высокий, очень высокий, выше только небо и звезды на нем. Выше только титан, который устал держать небосвод, который не обязан его держать, который больше его не держит. И я шагаю с моста, легко и свободно. И я лечу в темноту. А темнота летит в меня. И нет ничего, Жека. Только звезды.
Ничего нет. Нет тебя, нет крови на шортах, нет фикуса, нет тревоги, холодной ванны и пустоты. Нет свитера. Нет серого цвета. Ничего нет. Нет меня, Жек.
Так упоительно представлять. И я представляю. Жек, я представляю.
Это мое шестое письмо.
И я больше тебе не пишу.
Я все тебе уже написала.
Соня.
— Заходи, Сереженька, — говорит она и тянется встать, да куда там, ноги пудовые, раздуло совсем. — Заходи, милок.
Сереженька топчется на пороге, смотрит исподлобья, комкает в руках затертую шапку, а волосики у него тонкие, мягонькие, будто детские. На сердце от них становится теплее. Спокойнее становится. Вот он, Сереженька, пришел, голубчик.
За окном сереет поздний рассвет. Ноябрь. День обкорнали Господни ножницы. Один кончик от него и остался. Чуть забрезжит свет, чуть развиднеется, и снова муть да хмарь. А они перед рассветом приходят.
Вначале застучит легонечко в окошко. Тук-тук, стук-стук. Может, подойти если, то и разглядишь в серости этой, кто идет? Да как подойти, если ноги не идут, болят ноги, мочи с ними нет, сладу никакого? Так и сидит она на кровати, одеялом пуховым обернулась и тепло, под ноги табуретку задвинула, и не больно. Сидит и слушает. Тук-тук. Стук-стук. Пришел, значит, гость новый. Заходи, скорее, чего на крылечке мнешься? Ей бы испугаться, но не страшно почти. Только в дверях когда заскрипит, затемнеет в провале распахнутом, а лица не разберешь, пока на свет не выйдет, вот тогда жутко. Сердце екает, зависает в пустоте, и ничего нет — ни сил, ни слов, ни голоса, дрожание одно.
И каждый раз думается, вдруг он? И каждый раз молится, пусть другой, чужой какой, знакомый, хоть сват, хоть брат, милый Боженька, любого приму, как родного, а родной пусть поживет еще, Господи, пусть поживет.
Вот и тут застучало, заскрипело, в дверях мелькнуло, глядь, Сереженька Климов. Мальчонкой еще во дворах проказничал, а как девять классов отрубил, так и сбежал. Все они сбегали, что им тут, когда столица под боком? Мать по дворам ходила, искала, а потом ничего, свыклась. Все они свыкались, нечего поделать — жизнь. Все в ней своим чередом — рожаешь, растишь, носы трешь, лоб целуешь, крестишь перед сном, думаешь, мой еще, долго моим будет. Не углядишь, а он уже фьють! И нету. Ходи по дворам, не ходи. След и тот простыл.
Все уходят, и возвращаются все.
— Заходи, Сереженька, — зовет она, щурит слепые глаза, различает в пропитом мужике тонкошеего мальчика, вон, волосы какие мягонькие, смялись под шапкой.
Сереженька шагает через порог. Старые половицы молчат под его сапогами. Тяжело опускается на стул у окна, подпирает локтем скошенный подоконник. Смотрит тяжело, устало смотрит, измотано. Ничего, Сереженька, теперь отдохнешь, походишь немножечко, помаешься напоследок и отдохнешь.
— Ну как ты, голубчик? — спрашивает она, от гостя тянет рыхлой землей и морозной ночью.
Он молчит, ищет слова, с трудом разлепляет губы.
— Холодно, — сипит, кашляет. — Холодном мне, баба Люба. Холодно.
— Ничего, милок. — А сама покрепче в пуховое одеяло кутается, прячет озябший нос. — Это тебе только кажется. Попривыкнешь и забудешь, как холодно, как голодно. Все забудется, Сереженька. Все пройдет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





![Ольга Птицева - Зрячая ночь. Сборник [СИ]](/books/399654/olga-pticeva-zryachaya-noch-sbornik-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Фаза мертвого сна [СИ]](/books/399655/olga-pticeva-faza-mertvogo-sna-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Брат болотного края [СИ]](/books/399657/olga-pticeva-brat-bolotnogo-kraya-si-thumb.webp)