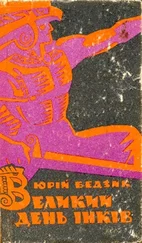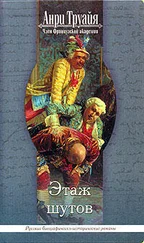— Кое-кому правда колет глаза, — резко сказал Найда.
— Бывает правда отдельного факта, а есть еще правда более широкая, так сказать, со сложностями, противоречиями, с человеческими характерами. Короче, решено показать эту ленту сначала вашему комбинатскому активу. Проверим факты на месте. Это не «Фитиль», а наша школа. Поговорим о том, какие еще имеются трудности и как их ликвидировать. Вы согласны, Алексей Платонович?
— Пусть и Невирко скажет слово.
— В первую очередь! И Гурский, и вы, — Фомичев одобрительно улыбнулся. Он выдержал небольшую паузу, лицо его стало строже, видимо, в мыслях уже перешел к другому и подыскивал нужные слова, чтобы продолжить разговор. Тяжело оперся локтями о стол, и Найда в этой его новой позе почувствовал что-то тревожное. Так начинают обычно трудный разговор.
— Теперь, Алексей Платонович… есть для вас интересная новость.
Фомичев встал из-за стола, достал сигареты и, чуть приоткрыв окно, сел на стул против Найды. Немного подумав, заговорил о прошлом. Собственно, о военном прошлом. Сам он — круглый сирота, родители погибли в партизанах, и его спасли буквально чудом: на последнем самолете вывезли из окруженного немцами леса. Он знает, что такое война, и очень ценит военные заслуги товарища Найды.
Алексей Платонович внимательно слушал, глядя на красивое, смуглое от загара лицо собеседника, на ровный пробор в темных волосах, на светло-карие глаза, и думал, что для людей младшего поколения война, верно, по-настоящему не ощущается такой, какой она была, какой знал ее он. Он-то помнил немецкие светло-синие мундиры, помнил тяжесть фашистского сапога, падал с кайлом в руках в темном карьере, падал и снова поднимался, ибо каждую секунду мог получить пулю в спину или удар прикладом по затылку, после такого удара редко кто поднимался на ноги. Ему было и обидно и грустно, и он вдруг подумал, что военное поколение — особенное, всех участников войны надо бы собрать вместе, расспросить каждого подробно, в душу заглянуть и все это описать.
Чего он, собственно, хочет от Найды, этот умный, пытливый молодой человек? На фронте такие первыми рвались на самые трудные операции. Суховат, подтянут, собран, прищур глаз умный, даже дерзковатый. Сидит в аппарате, звонки, бумаги, отчеты. Но, видимо, рвется куда-то, к большому делу, и поэтому живо все воспринимает, до всего хочет докопаться. Расспрашивает, уточняет, удивляется.
Найда почувствовал искренний интерес Фомичева к пережитому им в немецком лагерном аду. Возможно, это не простое любопытство. Он спрашивал так, как спрашивал его однажды Петр: что Найда испытывал, что чувствовал, от чего страдал, и Найда рассказывал все подробно, четко, называя фамилии и даты.
— Вы упомянули Густу Арндт. Что с ней случилось?
— О ней так просто не расскажешь, всю ее жизнь надо бы описать и все, что пережила эта женщина, все ее страдания, всю ее трагедию…
— Какую трагедию?
— Видите ли… как бы вам лучше объяснить? — заколебался Алексей Платонович, словно не желая впускать своего собеседника в священные уголки памяти. — Она дважды спасла мне жизнь. Собственно… один раз. В сорок первом ей это не удалось, гестапо и Вилли Шустер — был там один выродок, из наци, — забрали меня и Звагина в концлагерь. Позднее Густа снова появилась на моем пути, но на этот раз в форме эсэсовки, надзирательницы женского блока. И в последнюю минуту отчаяния, в последние минуты нашей жизни дала нам свободу.
— Кто такой был Звагин?
— Инженер из советского посольства.
— Он погиб?
— Его перевезли в другой лагерь еще в сорок первом. Больше я о нем ничего не слышал. Видимо, его убили.
— Вам посчастливилось, — с какой-то многозначительностью проговорил Фомичев.
— Густа Арндт освободила меня с Ингольфом…
— Простите… Новое имя…
— Ингольф Готте. Коммунист с тридцать второго года, товарищ Тельмана. Погиб, будучи предан, под Ошацем…
Фомичев бросил на Алексея Найду испытующий взгляд. Найда почувствовал это и вновь повторил:
— Да, предан… Под Ошацем, — подтвердил Найда.
— А сама Густа спаслась? Теперь кое-что проясняется… — Фомичев помедлил немного. — То есть… некоторые новые сведения… Мемуары Шустера, начальника вашего лагеря. Он оклеветал Густу Арндт…
— Надеюсь, немецкие товарищи правильно реагировали на его клевету! — взорвался Найда.
— Из их письма мне ясно, что совершенно правильно. Шустер, публикуя свои мемуары на Западе, пытался бросить тень на доброе имя Густы. Называет ее верным солдатом фюрера, своей подручной, даже своей женой… Да, да, своей женой! Пишет, будто Густа в сорок шестом году отдала ему маленькую дочь Ингу, чтобы он увез ее в Западную Германию…
Читать дальше