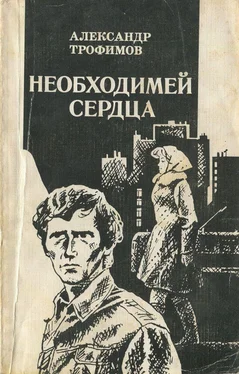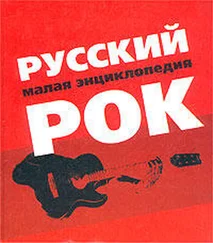И даже чувство голода исчезло перед ним. Ни разу за всю жизнь не было во мне такого страха, и тьма льнула ко мне словно из-за какой-то тайны, сидящей в глубине моей души, такой глубине, недоступной и мне самому, и мне стало жутко, точно я был виноват перед всеми так, что вину мою невозможно искупить ничем, кроме собственной жизни, а может, и ее было недостаточно. Хотелось уже только одного — чтобы скорей пришла эта расплата. Чувство обреченности быстро нарастало. Сердце мое сурово натянуло нить жизни, желая оборвать ее, чтобы никогда больше не было такого страха.
И я увидел в воздухе эту нить и почувствовал, что она была всегда, лишь слабое зрение мое не позволяло ее видеть и ощутить.
И все время меня не покидала мысль, что кто-то вглядывается в меня ненавидящими дулами глаз.
К вечеру я выбрался к какой-то деревне. Возможность ночевать снова без людей мучила меня.
У дороги, прежде чем зачехлить двустволку, я хотел вынуть из него пулю.
Но пули не было.
Через час езды на попутной машине я добрался до станции.
Вид внезапно вынырнувшей из снега станции ошеломил меня, вернул в прежнюю оболочку. Я точно много месяцев проблуждал в тайге. Никогда я не любил людей так жадно и искренне, как в тот вечер, подаривший мне жизнь. Я впитывал их разговоры, их судьбы.
Я долго размышлял — что же случилось со мной? Может быть, на Земле в одно и то же время происходит много жизней, много эпох, о которых мы даже не подозреваем? Есть ведь геометрия Евклида, но есть и геометрия Лобачевского — почему бы не быть и другим? И мы каким-то неведомым образом принимаем участие в жизни другого времени и живем одновременно в нескольких измерениях — отсюда и странные сны, и необъяснимые ощущения, и галлюцинации. Мысль моя рвалась дальше, но, испугавшись ее, я одернул себя: что за игра больного воображения?
Не сразу, но я заставил себя не думать о случившемся. И уж конечно никому не рассказал об этом — у невропатологов и без меня много работы.
С тех пор я не могу оставаться в одиночестве. Я сменил маленькую уютную отдельную квартиру, которую с трудом приобрел три года назад, на комнату в многонаселенной коммунальной квартире. С какой радостью прислушивался я к шагам и перебранкам соседей, как благодарен был им за их голоса. Приемник работает в моей комнате день и ночь — какое счастье пронзает меня, когда, отворяя ключом дверь, я слышу голос транзистора! А телевизор я считаю теперь самым гениальным созданием века и всерьез думаю, что его голубой экран — экран жизни.
Моя странная перемена оказала влияние на сослуживцев — внезапно у многих из них появились незамужние дочери, племянницы, внучки…
Скоро я женюсь.
А ружье я продал первому же человеку, пожелавшему его приобрести.
Я уверен, что пуля помнит ствол, и как знать… впрочем, лучше предоставить все судьбе.
Больше всего на свете не хотел бы я вновь стать владельцем ружья.
Всю ночь лил дождь, и ему не спалось. Дождь питал его нервы, и те жили отдельной жизнью.
Он надел рубашку и вышел на балкон. Был июль, и ночь была такой теплой, какой только могла быть в эту пору.
Он подставил лицо косым струям, и несколько капель проникли в рот. Они были безвкусны.
Он услышал шорох за спиной, ощутил прикосновение женщины, но не обернулся.
Огромный город лежал перед ним. Крыши домов были опущены — дома прятались под ними. Было одиноко и хорошо. Казалось, что завтра утром дома расправят крыши, отряхнут последние капли, которые ленивые лучи не успели слизать, и разлетятся.
Он подумал, что в городе было сейчас только три человека, кто не спал, — он, она и дождь, но потом решил: нет, всего лишь двое. Именно двое: он и она — одно целое.
Он был свободен с ней, как не был свободен никогда в жизни. Может быть, только в раннем детстве, когда он не осознавал своих поступков. Рядом с ней он мог произнести вслух все, о чем думал.
Мысль его коснулась образа жены, которая тоже спала в этом городе и не знала, что он прилетел еще вчера. И он подумал: как много сил тратит человек на то, чтобы склеить старую посуду, когда владеет новой. В самом деле — та сила, которая уходила на постоянное склеивание старого и ненужного, могла быть потрачена на любимого человека.
И он коснулся губами руки любимой, и почувствовал холод ее кожи, и увел ее в комнату.
Было радостно нырнуть в накопленное под одеялом тепло.
У него не было чувства, что он предает жену, хотя многие назвали бы это предательством. «Нельзя предать то, к чему не питаешь искренней любви», — сказал он себе.
Читать дальше