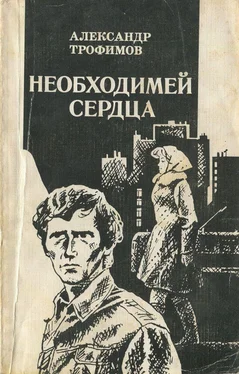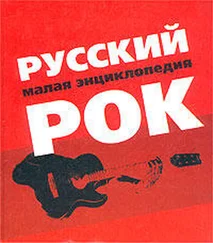Мне было тепло, спокойно, — тут бы и спать. Но не спалось. Темнота давно проглотила свет за окном и теперь вливалась в мое окно. Ветер все не появлялся, и густая тишина отдыхала вместе со мной. Я помнил, что окно выходит в бесконечное поле, и мне было приятно думать, что завтра я первым проложу по нему лыжню.
Я слепо лежал, и мне стало вспоминаться детство, когда так хорошо спрятаться под кроватью, и лучший пласт моей памяти стал дарить мне живые картины, которые ни разу раньше не вспоминались.
Странное создание человек. Когда хочешь что-либо вспомнить, память не уступает, а как только забудешься, она тут же начинает являть такое, о чем давно позабыл. Она как инструмент, который чутко подчиняется неясным для нас самих движениям нашей души.
Я вспоминал картины прошлого.
Во мне ярко оживали запахи детства. Я вспомнил, как пахло под кроватью, куда я прятался, будучи один в доме, вспоминал запах земляничного мыла, которым меня мылили по понедельникам, потому что в этот день ванну почти никто не занимал. Я ощутил и запах первого своего синего с зеленой полосой резинового мячика, о котором и думать забыл. И запах первого школьного портфеля возник в этой заброшенной в лесу избенке, и ласковый запах пластилина с уроков труда вернулся ко мне.
Потом картины и запахи необъяснимо сменились — хотя кто может объяснить поведение подсознания, этого сумасшедшего, которого мы вынуждены носить с собой.
Я вдруг увидел себя в одеянии жреца. Оно мягко покрывало мои плечи и возвышало меня даже в собственных глазах. Мое сознание раздвоилось — одной его частью я был в сегодняшнем, истинном мире, но другая моя часть существовала в далеком прошедшем и не покорялась моей воле.
Шел тайный совет жрецов, которому практически подчинялось государство. Фараон был мал, и здесь, в этой комнате, под руководством бессмертного бога Ра рождались решения: начинались войны, отдавались приказания о строительстве пирамид, об уничтожении духа бунтарства на окраинах величайшего государства. В маленькой комнате пахло очень приятно заморскими веществами. Пока шло заседание, в комнату никто не мог войти и никто не мог выйти из нее. Один из жрецов, членов тайного совета, начал проповедовать новую религию — поклонение Луне, а не Солнцу. «Раз Луна женщина, — говорил он, — значит, она мать Солнца, мать света». Новая религия могла усилить и без того заметное брожение рабов, которые по предписанию основателя новой религии тоже могли вступать в тайные секты поклонения Луне. «Мы долго искали основателя этой самой крамольной, со дня появления мира, мысли и наконец, благодаря предательству, этому навозу, на котором произрастает прекрасный цветок власти, мы нашли нашего главного врага — он был с нами. Он знал все о власти, о нас, и он мог этим воспользоваться в своих безумных идеях». Все это я сказал дрожащим от возмущения голосом, и приговор моих собратьев по религии был один — смерть.
Когда я назвал имя предателя, все встали от неожиданности и так стояли во время моей речи.
Основатель тайной секты вынужден был расстаться с жизнью здесь же — отдать его палачу мы не смели: ни один человек, кроме нас, не должен был знать, что среди высших жрецов могло быть предательство.
В то время как предатель испустил дух, по комнате пробежал вдруг необъяснимый ветерок. Ветерок всполошил наши свободные одежды и исчез столь же необъяснимо, как и появился. Нам стало страшно: я видел это по лицам, но ни один из нас не в силах был сознаться в своем страхе — человек, способный испугаться, не способен руководить государством. Мне даже показалось, что у мертвого переменилось лицо: то оно было решительным, теперь же имело столь брезгливое выражение, будто он вынимал из блюда с едой случайно попавший туда волос.
Я помнил, что после этого ветерка я никогда уже не смел оставаться один. Не веданная раньше сила гнала меня кнутом из одиночества. В двенадцать часов следующего дня случилось затмение, которого никто не предвидел, Солнце словно вышло из капканов математических формул.
В течение нескольких месяцев после этой тайной смерти и после необычайного затмения все жрецы, присутствовавшее на том тайном совете, умерли при загадочных обстоятельствах. Было известно, что все они опасались одиночества, как отравленной стрелы…
Я очнулся, ибо не могу сказать, что проснулся, потому что не спал. Но я не бодрствовал, а пребывал на той мимолетной грани между явью и сном, когда одной ногой находишься в этом мире, а другой — с опаской стоишь в ином.
Читать дальше