Ты мог и не служить в батальоне СС, ни разу не выстрелить, никого не предать — и все равно зарыдаешь «Господи, помилуй!», заглянув в кварталы, где когда-то бурлила их жизнь, теснились их лавочки, их шкалы [180] Škala или iškala — так в Литве называли бейт ха мидраш.
, их синагоги, от которых не осталось и камня на камне. Мой любимый город никогда не будет таким, каким был бы, если бы у него не отняли его еврейскую историю. Вылезающие то там то тут из-под штукатурки и краски письмена на иврите и идише не устанут преследовать нас вечным упреком, ведь мы не сумели защитить этих людей, не сумели даже вступиться за тех, кто столетиями мирно и трудолюбиво строил здесь свою жизнь.
Не о жестокости речь. Не помню, в чьем дневнике мне довелось прочесть записи 1942 года. Война, оккупация, не хватает дров и хлеба. Темный, холодный Вильнюс. Стакан чаю с повидлом или кусочком сахара становится праздником. Дневник отмечает все, каждую мелочь интеллигентской жизни. Ищу известий о происходящем в городе за пределами крошечной квартирки. Ни слова, ни малейшей заметки. Снова чай, разговоры о быте, попытки отвоевать хотя бы чуточку уюта и безопасности. Гетто — вот оно, через улицу. Никто ничего не видел, не слышал, не хотел видеть и слышать. Боялся даже намека, не дай Бог развалится его мнимо спокойный домик? Втихомолку молился о том, чтобы человек не был жесток к ближнему своему?
В других литовских городках, бывших штетлях, когда я беседовал со свидетелями тех событий, меня тоже не раз поражали лакуны, провалы в памяти там, где впору было бы до скончания века вздрагивать от ужаса. В километре от твоего дома зарезано и свалено во рвы несколько тысяч твоих соседей, а в памяти ничего не осталось. Кошмары не мучают? Нет, не жалуемся. Да, в городке поговаривали, что всех евреев собрали и расстреляли. А немецкие солдаты были веселы и находчивы, одаривали детей шоколадками, пахли мылом, иной еще и на губной гармошке изображал что-нибудь романтическое. Приходилось прятать от них кур и сало… Страшнее преступлений литовских стрелков мне кажется то, что многие тогда верили: твоему народу, тебе, соседям можно жить, рассуждать о свободе, даже чувствовать себя счастливым, списывая со счетов — от страха, от тупого безразличия — других, иноверцев, якобы не заслуживших места под солнцем. Пусть их вертятся шестеренки фабрики смерти, все равно их не остановишь, а нам надо жить, сохранить себя как народ, восстановить государство. Чай стал горчить лишь спустя несколько лет, с приближением фронта и Красной армии, тут-то вспомнились пытки, застенки, ссылки, уготованные тебе самому. И когда поднимали бокалы за новый 1944 год, шампанское уже мешалось со слезами, уже начались рефлексии, поиски способов выкрутиться.
Понимаю, нет ничего легче и глупее, чем задним числом выносить вердикты: мол, кто-то мог бы стать героем или святым, а заботился лишь о своей шкуре. Всяк горазд языком молоть, если не приходится ставить на карту собственную жизнь. Но я не верю, что те, кто все же не закрыл глаза на судьбу гонимого народа, были непобедимыми храбрецами и героями. На подобные «мероприятия» идут не размышляя, как на духу, от невозможности поступить иначе. Почему в христианском народе, который днем и ночью пичкали евангельскими заповедями, нашлось так мало решимости заступиться за этих несчастных? Ну, а сейчас, после всех пережитых нами мук и гонений, стали ли мы иными? Может ли тут родиться хотя бы чуть более твердое «не могу» перед лицом несправедливости и насилия?
Много лет назад, на тогдашнем проспекте Ленина, соседи-евреи угостили меня праздничной мацой. Переехав, мы все время оказывались рядом с ними, чудом уцелевшими или переселившимися из других мест и еще не эмигрировавшими в Израиль. На скамеечках теперешнего «французского парка» еще можно было услышать разговоры на идише, в доме напротив него мы делили кухню с пани Сувальской, потом с интеллигентной Раей, а в классе всех веселил круглолицый Лазарь, позже уехавший на родину предков. Да, о маце — в детстве это была обычная история, когда целый день носишься по лестничной клетке, а тебя вдруг заметят, заговорят с тобою, когда случайно «врежешься» во взрослых, а тебя вдруг окатят волной нежности и щедрости. В таком вот порыве добрых чувств соседка, улыбаясь, как-то зазвала меня к себе, стала рассказывать что-то о своих традициях, а под конец дала большой хрустящий хлебец. Он не был вкуснее черного хлеба, посыпанного сахаром, я ел его, поначалу несмело, но с каждым куском все меньше верил, что руки, протянувшие мне этот хлебец, могут быть коварными или недобрыми.
Читать дальше
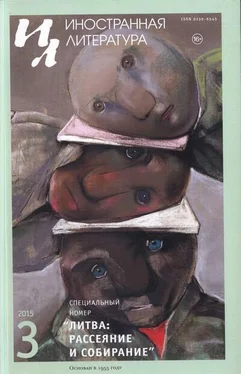






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


