Уже называя год, я сообразила, что говорю не своими словами. Это были записи лейтенанта Тома Глана. «Пан», самое начало. С этой книгой в руках здесь похоронили сестру Эмилии. Мне вдруг до смерти захотелось рассказать про эту девочку журналистке. Вот и были бы совершенно личные, искренние впечатления от этого праздника… От более раннего… Я взглянула на журналистку, но она смотрела на оператора. Улыбаться перестала. Не ощущая жизненно необходимой поддержки, я совсем растерялась. Желая увернуться от глаза камеры, издали удивительно похожего на дупло, я наклонилась. Потрогала изумрудную траву — она была жесткая на ощупь. Я видела четыре ноги двух людей, казалось, принадлежавшие одному существу. Вокруг не было ни кочки, ни пучка сена, ни одного высохшего клочка. Тогда я поспешно, не распрямляясь, отодрала ногтями от литровой банки выскальзывающую пластмассовую крышку, сунула четыре пальца в подаренный Эмилией мед, который осенью помогал ей свести концы с концами, подцепила добрую горсть и замазала объектив. (Сделала точно так, как в старину делали люди в странах Востока, когда рассказывали дереву тайну, желая задушить ее в темноте.)
Сигитас Парульскис
Жертвоприношение
Перевод Татьяны Корнеевой-Мацейнене

Здесь сходятся все полюбившиеся мне персонажи, весь трансцендентный и имманентный жизненный опыт, все переживания: Иисус Христос, Отец, Мать, Сын, невинность и грех, любовь и ее пустота, суета — и не в вульгарном смысле этого слова, а в смысле полной опустошенности, — материальность пустоты и ее противоположность, возможность нащупать духовное начало, хотя бы в знак того, что оно есть в неизъяснимом пространстве, есть где-то рядом, как смерть и упраздненное воскресение. Ритуал, смысл которого я никогда не пойму до конца и значение которого тонет в повседневных мелочах, однако не менее важный, чем цикличность природы, осознание — хотя бы мгновенное — структуры мира, тоска по всему, что постоянно утрачивается, тоска, преследующая и истощающая сознание до неимоверного сияния — сияния, изглаживающего иерархию образов, да и вообще — порядок и достоверность.
Не хочу, даже и желая того — не могу воспринимать это как священнодействие, хотя отец со старым проржавевшим ножом и брагой из местной пивоварни, а также с замызганными хлевным навозом веревками в руках напоминает мне героя Ветхого Завета, может быть, даже самого Авраама, а я, идущий в загон к обреченному животному — свинье, чувствую себя Исааком, и, пока отец связывает ноги свиньи веревками, чтобы мы могли ее опрокинуть, на меня, прямо-таки сковывая члены, действует могучая сила, тысячелетиями требующая жертвоприношений… И перед лицом этой силы не так уж и важно, что свиней режут всегда, точно так же зарезан мог бы быть и я сам или принесен в жертву отец — в этом треугольнике жертвоприношения, преисполненном жестокости традиций и обычаев, мы, все трое, равны.
В родительском доме я всегда чувствую себя гостем, может, даже немного чужаком, посторонним, приехавшим ненадолго и надолго уезжающим, и, чего доброго, только обращения к отцу, матери — только обращения делают меня сыном этих людей, которых я называю отцом и матерью. Кровь — огромная сила, но разве только кровь нас связывает? Кровь свиньи? Кровь дома? Матери? Кровь полуголой женщины с рассеченной головой, кровь, капающая на снег, — какую ослепляющую белизну помнит снег, отведавший крови, а позднее — с невероятной скоростью заполняющий большую миску с холодной колодезной водой, кровь, ее так много, что, кажется, вода превратилась в кровь, и скоро она начнет беспрерывно хлестать через край; полный таз материнской крови; наклонившись над ним, она словно приносит жертву, и нет таких безвинных слез, которые могли бы смыть эту картину, нет ритуала — который мог бы ее оправдать. Эхо первородного греха, греха, обретенного с кровью рожающей матери. Человек с ранних лет может стать учеником Христа, однако как коснеющая в традиции животная особь он не имеет выбора.
Родители стареют, старение их трудно заметить, трудно сравнить их с ними же самими, какими они были столько-то и столько-то лет назад, но всякий раз агония закланной свиньи удлиняется, и по этой затянувшейся агонии — ужасающему прощанию жизненного процесса с жизнью, сопровождаемому всплесками визга, — я понимаю: отец постарел, из рук ушла сила, он уже не может достигнуть сердца свиньи, а я — я могу убивать только словами.
Читать дальше
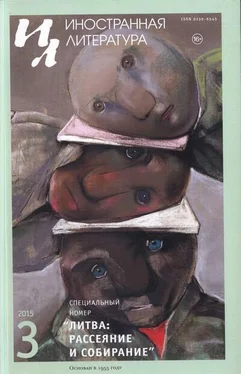







![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


