У меня было ровно два часа. Тропинки в парке за усадьбой не были посыпаны ни щебенкой, ни камешками. С собой у меня была только коробка трюфелей для Эмилии. Может, надо будет называть ее Эмилюте, как называл дедушка, когда распечатывал последние продиктованные братом и написанные ею письма. Солнце уже садилось, в косых лучах вспыхивала, но, вылетев из полосы света, тотчас пропадала мошкара. Цвели только желтые цветы. В их серединках держалась, собравшись правильными круглыми облачками, дымка пыльцы. Я боялась, как бы не поднялась обычная для этих краев песчаная буря. Недавно в Вильнюсе одна женщина, волоском сшивающая блузки из засушенных жасминовых лепестков, спросила меня, люблю ли я бывать на природе. Одна — нет. Одна — точно нет. Я ответила ей, что тогда долетающий издали собачий лай кажется мне таинственным, каждая травинка начинает жить самостоятельной жизнью, а небо над головой захлопывается, словно фиолетовый чемодан с двойным дном, в котором спрятаны апокалиптически опасные вещи. В глаз влетела мошка, и теперь он чесался. Слева тянулась ограда кладбища, и странно было знать, что именно здесь лежит в белом гробу девочка с большим молитвенником, моя кровиночка.
Справа краснел краеведческий музей. Когда я подходила к курившей в дверях женщине, она показалась мне серой мышкой, которая каждое утро обтирает шкуркой наскучившие экспонаты своей западни, уже не цепляясь за них взглядом. Но когда я приблизилась, сразу бросилось в глаза, что о женщине ничего не скажешь. На ногтях — лак сочного вишневого цвета, на щиколотке — серебряная цепочка. Название улицы — Шермукшню, Рябиновая, — она произнесла шепеляво, пробудив в памяти немецкое слово verfüren: соблазнять. Я давно заметила, что шепелявость и даже косоглазие иногда производят странное эротическое действие.
— Берегитесь, слева пруд, — сказала она, махнув рукой в сторону Рябиновой улицы. — Мы его называем Королевским глазом. Там глубина — три метра, а издали выглядит как луг, совсем зарос.
Уходя, я подумала, что эта женщина могла продержаться в музее только лето (в глазах у нее тоже была глубина — три метра).
Эмилия встретила меня в саду, одетая в старый, но все еще белый халат медсестры. Лицом она нисколько не походила на деда, но, когда она велела не разуваться и заварила чай, я почувствовала себя как дома. Одноэтажное ее жилье мы так и не обошли, я только видела, что на старинной печке сидели две кошки. А в «захлебнувшемся сливами саду» мешал цемент голый до пояса мужчина. Она стала рассказывать о себе так, словно мы давненько не виделись. На самом-то деле я ее никогда не видела, даже на семейных фотографиях. Эмилия работала в местной больнице, в отделении гемодиализа. Больных с не работающими почками чистить кровь привозили близкие. Мужья, обычно очень вежливые и испуганные, жен провожали самое большее два-три раза. Потом жены начинали им напоминать треснувшие и противно пожелтевшие груши. Никто не виноват, сказала Эмилия, так природой устроено, я давно поняла, что мужчина женщину любит до тех пор, пока она желанна. А женщины иногда любят мужчин и после их смерти. Жены провожали мужей на процедуры, иногда длившиеся по четыре часа, до самой их смерти, если не находилось донора почки и положение было безнадежным. Люди — и мужчины, и женщины — одинаково плакали, когда вены и артерии на руках и ногах были так исколоты, что не найдешь, куда воткнуть иглу. Но Эмилия была опытной, рано или поздно подходящее место высматривала. Она скептически относилась к перитонеальному диализу из-за частых инфекций. Хотя ясно, что можно эту процедуру проводить дома… Полгода назад она еще работала в каунасской клинике. Ричардас — она махнула через окно на мешавшего цемент мужчину — тогда вкалывал в Ирландии на рыбном заводе.
— Осенью выхожу замуж. Надоело из Каунаса на выходные ездить. То на то и выходило. У меня был роман с врачом из другого отделения. Я спала с ним, а он — и с другими медсестрами. До самого конца этой истории почему-то не могла себя заставить сказать ему «ты», обращалась на «вы». Ему и его дети говорили «вы». Один раз мы занимались любовью в его старом «мерсе». Зимой. Открываю глаза, рядом сопит человек, воняет тряпка, которой протирают стекла. У начала лесной дорожки заметенный указатель — «Католический детский летний лагерь». Мне надо было чувствовать, что я молода, что у меня обе почки действуют, надо было чувствовать, что я живу. Позади указателя заснеженный ельник, заячьи и собачьи следы, снег облит кофе из нашего термоса, дальше — предместье, Каунас, люди, звуки, но мне показалось, что за этим указателем ничего нет… Что там только туман и небо, понимаешь? Вдруг мне стало ясно, что я больше не смогу говорить этому врачу «вы». Да и не понадобится, потому что я больше не люблю его. Когда вернулся Ричардас и я уже работала здесь, он еще раз позвонил, ночью, из каунасского казино. Пьяный, но не сильно. Эмилия, говорит, ты всегда знала, чего хочешь, хотя я тебя до конца не понимал, быстро скажи, на какой цвет ставить, на красный или на черный, назови любое, но счастливое число. Рядом лежит Ричардас. Я шепчу: цвет — красный, номер — семь. И обязательно позвоните, доктор, другим медсестрам, не стоит рисковать, узнав только одно мнение… А мой Ричардас сквозь сон бормочет, какая ответственная у тебя работа, Эмилик, ночью в лаборатории они без тебя совсем запутались в пузырьках.
Читать дальше
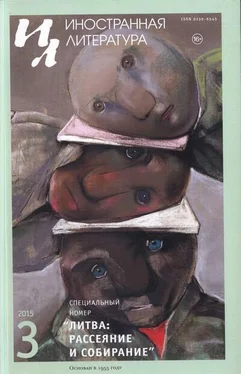






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


