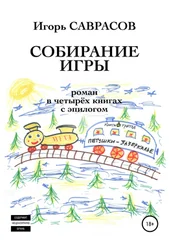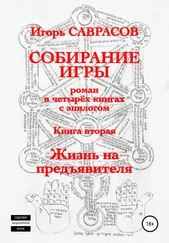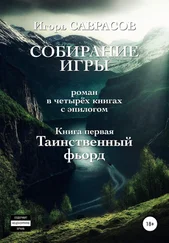Г. Е.А вот условные земляки Канта, жители современного Калининграда, с которыми я общался, они саму идею такой пьесы приняли с настороженностью…
М. К.Они попросту испугались. Но испугались скорее пьесы, а спектакль приняли и зовут нас опять. И мы поедем, конечно. Дадим четыре спектакля. Аудитория у этого представления всегда небольшая — 100 человек. Больше нельзя. Любое сообщество должно внутри себя наладить определенные связи, и зрители «Канта» должны это сделать, по возможности, быстро. Это некий сговор неглупых людей, такая договоренность: давайте отключим мозги. Это необходимо для «солидарного» понимания. Ведь в хороших пьесах однозначных ответов нет. Требуется коллективный поиск ответа. Надо сказать, когда вышел «Кант», в сознании продвинутых зрителей и критиков не нашлось «полки», на которую это явление легко было бы поставить. Спектакль сам создал такую полку. Во всяком случае, он ее строит, мастерит, сооружает. В основе уже имеются два опорных момента — феномен Канта и феномен Ивашкявичюса. Всегда проблема, когда является некто, кого до сих пор не было. Это чрезвычайно трудно — согласиться, что возникает новый, свой контекст, который не с чем сравнить. Он сам становится базой для будущих сравнений.
Г. Е.Когда и как в твою жизнь попал Марюс?
М. К.В 2000-е. Приезжаю в Вильнюс и иду в тамошний Малый театр. Марюса я тогда почти не знал, что-то слышал, но не слишком внятно. Дают «Мадагаскар», а я опаздываю к началу и попадаю только в антракт. В фойе сидит молодежь лет по 18–20, это для меня совершенно незнакомое поколение, и они горячо обсуждают один очень важный вопрос: а можно ли так говорить и думать об отечестве? О Литве, о нас? И я понимаю, что в пьесе, на сцене, происходило и происходит что-то необычайно важное и актуальное. Потом я увидел вторую часть спектакля, потом весь спектакль, и не один, а два-три-четыре раза… Туминас отлично его поставил… Но я о другом. Марюс этим своим восприятием истории просто взбудоражил общество, заставил всмотреться и вслушаться в себя и в окрестный мир. Спустя какое-то время последовал новый удар не меньшей силы: «Изгнание» (в русском переводе «Гон»). Могу сказать, что и я побывал на месте его героев. Когда все вокруг подмывает бежать, устремляться куда-то, гнаться за самим собой… Я в 1997-м, будучи достаточно обеспеченным, хотя и безработным, поехал туда, в Лондон, на три месяца — рассмотреть западный мир и разобраться в себе. Подумать, как быть дальше. Я многое тогда разглядел (как и молодые герои пьесы) — и ужас, и одиночество, и обреченность. Я смотрел спектакль в видеозаписи и поймал себя на каком-то очень сокровенном переживании. Моя Москва родилась в Лондоне. Там, в пивной, я сидел с выпускником философского факультета, готовым перевоплотиться в каменщика, мы сидели за чаркой самого дешевого виски и решали — как сопротивляться отчаянию. Я слышал, что «Изгнание» хотят поставить в Москве. Сомневаюсь: кто адресат? Кого и как эта история тут может затронуть?
Г. Е.По моим наблюдениям, — Марюс лучше знает, как и на что воздействовать в наших душах. Думаю, Москва отзовется. Этим она всегда была хороша.
Гедра Радвилавичюте
Притяжение текста
Перевод Александры Васильковой

У меня есть несколько критериев для оценки притягательного текста. Первый. Прочитанный рассказ должен снова, помимо моей воли, вторгаться в память — не обязательно вспоминаются сюжет или характеры, может быть, только детали, сравнение, метафора, какой-нибудь неожиданный поворот: В их усадьбу во время войны попала бомба, вся семья сгорела, и бабушка повредилась в уме. Но один врач научил ее ходить против ветра, против свежего прохладного ветра, и ей это помогло (Э. Тодэ). Второй. Текст должен быть не слишком далек от моего опыта. Тогда начинает казаться, что и я это испытала, и я там была, мед-пиво пила, те самые слова на язык просились: Помню, как-то раз ты меня спросила: знаешь, чтó там, где заканчивается Полоцкая улица? Я съежился и даже слегка похолодел, но ты настойчиво смотрела мне в глаза: скажи, что? О, ответил я, ну конечно лес, лес, больше нечему быть. Еще… Нет, тряхнула ты головой — этого движения мне, может, сегодня больше всего и недостает, — там только туман и небо, понимаешь? (Ю. Кунчинас.) Третий. Читая текст, я должна позабыть обо всем вокруг — иногда на мгновение, иногда такое состояние длится дольше: Прилетевший откуда-то крохотный мотылек стал энергично и бестолково носиться над нами — клочок бумаги на легком ветерке. Покрутившись, он сел ей на грудь, немного отдохнул, потом вспорхнул и скрылся из глаз. Мотылек улетел — и мне показалось, будто подруга чуть-чуть, едва заметно постарела (Х. Мураками). Четвертый. Рассказ заставляет знакомые, может, даже банальные вещи раскрыться по-новому: В тот раз мне впервые бросилось в глаза, что о женщине ничего нельзя сказать: я заметил, как, рассказывая о ней, они все обходят ее, как заговаривают о другом и изображают другие вещи, обстоятельства, места, предметы, пока приближаются к тому самому месту, где все это заканчивается, мягко и будто бы осторожно заканчивается легким, никогда не прорисованным контуром, который ее и обозначает (Р. М. Рильке). Пятый… Как только я хочу что-нибудь сформулировать до конца, меня охватывает паника. Все высказанные положения делаются спорными и эфемерными. Окончательная истина становится тайной, которую я не могу, не ведая сомнений, открыть публично. Недавно я видела фильм. В нем сначала рассказывается, а потом показывается, как в старину в восточных странах, когда человека тяготило какое-то знание, он шел в лес, находил дерево с дуплом, приближался к нему — губами к коре — и, выговорив свою тайну темной полости, заделывал ее выкопанными тут же комьями земли, высохшей травой или мхом. Мужчина в фильме рассказывает о женщине, которую он слишком любил для того, чтобы с ней любиться. Силуэт ее напоминал розовый бутон. От распускания страсти ее уберегала вшитая в шелковое платьице молния — от крестца до последнего шейного позвонка.
Читать дальше
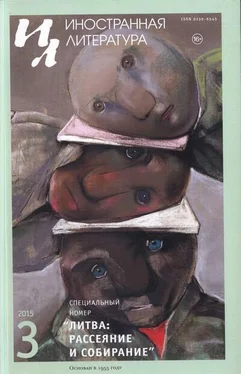

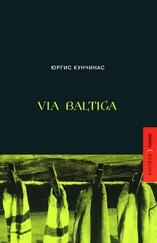

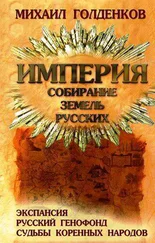



![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)