— Эмилия, — говорю, — любовь длится три года. Как и тюремный срок. Потом возвращаются домой.
— Откуда ты знаешь? — спрашивает она.
— От французских писателей, — говорю.
— Ты только не сердись, знаешь, я литературой совсем не интересуюсь. Мне лучше давалась химия. Я читала, что здесь, в усадьбе, происходит этот форум, но не пойду. Разве что вечером, музыку послушать. В больнице я так устаю, что газету не всегда могу полистать. Кроме того, вечером сливы закатывать будем. И мед убрать надо. Мед осенью нам даже немножко помогает концы с концами свести. Вот моя сестра, может, стала бы изучать литературу. Но ей было не успеть, умерла двенадцатилетней. Когда она уже сильно болела, мать всю местную библиотеку домой перетаскала, потом унесла обратно. Родители и нашли ее утром мертвую с книгой. С этой книгой и похоронили — 1972 год, «Голод. Пан. Виктория». Соседи, дураки, говорили: Бога совсем не боится, сунуть девочке в руки роман вместо молитвенника… — но матери было наплевать. Женщины, которые хоронят своих детей, вместе с ними и Бога закапывают. Кроме того, ей, может, спокойнее было себе представлять, что сестра эту книгу дочитает в раю. Смерть моей сестры повлияла на то, как я сегодня живу. Хотя, может, и не смерть, я слишком мала была, чтобы понять, может, больные повлияли. Ричардас думает совсем по-другому. Для него не существует прошлого, только то, что будет. Привез из Ирландии денег, пристраивает теперь к дому еще комнату с отдельным входом, говорит, для ребенка. Он не знает, что, пока он был в Ирландии, мне сделали операцию, и детей у меня, наверное, не будет.
Ни на одной из фотографий, которые мне показала Эмилия, не было деда вместе с братом. Словно они и в воспоминаниях могли жить, только соперничая. Но в альбоме была та самая фотография, которую я подростком от страха разорвала: в белом гробу лежит девочка с деревянными косами и книгой Гамсуна в руках, а рядом пережившие ее смерть мать и фикус.
Потом мы вышли в сад, Эмилия захотела нарвать для меня слив и налить литровую банку меда. Так и не познакомив меня с Ричардасом, она забралась на приставную лестницу, поставила мне на голову эмалированную миску — я одной рукой ее придерживала, уперев другую в бок, и казалась себе женщиной с этикеток советского молдавского вина. Разомлевшая кошка терлась головой о мою голень. Сливы шлепались прямо на макушку. Прилетевший откуда-то крохотный мотылек стал решительно и бестолково носиться над нами — клочок бумаги на легком ветерке. Покрутившись, он сел ей на грудь, немного отдохнул, потом вспорхнул и скрылся из глаз. Мотылек улетел — и мне показалось, что я могу предугадать дальнейшую судьбу Эмилии. Ричардас закончит пристройку к дому, но не найдет работы в этом городке. Он снова уедет в Ирландию, потому что там остались все деловые связи. Будет стоять у конвейера, фасовать мороженую рыбу и через полгода почувствует, что стынет сердце. Однажды вечером выйдет из пивного бара и захочет есть, в другом кафе познакомится с женщиной, на год приехавшей из Литвы поработать в гостинице, чтобы поставить красивый памятник погибшему в аварии сыну. Он проводит ее до дома, по дороге расскажет про пристройку, про оскудевшую жизнь в Литве и даже про Эмилию. На другой день или еще через день он получит от расхрабрившейся на расстоянии Эмилии письмо, в котором та признается, что не может иметь детей и, не сказав ему об этом, чувствует себя виноватой. Он вспомнит пространство городка — то, что его ждало и словно было его домом, — сад, «захлебнувшийся сливами», осенью — мед, Эмилию, старые белые халаты, расстеленные дома на полу вместо тряпок, и…
— Ну, может, хватит? — спросила из веток Эмилия.
Халат она скинула и обвязала им голову от пчел. Наклонившись, смотрела на меня сбоку. Я убрала миску, взглянула наверх и поняла, что она мне кого-то напоминает: белое не загоревшее лицо вполоборота, пухлые влажные губы, никакого прошлого — одно ожидание (хотя сама она и думает по-другому), вместо волос — складки белой ткани… С дерева, сквозь ветки, на меня большими глазами смотрела вермееровская девушка с жемчужной сережкой. Только вместо жемчужины у самого уха висела, чуть подрагивая, тяжелая, опаловой дымкой подернутая слива.
Потом мы сходили на кладбище. Я несла мешочек со сливами и литровую банку меда и старалась запомнить могилу сестры Эмилии, хотя в таких местах мне всегда кажется, что еще раз я здесь не побываю. Родня лежала в земле несколькими слоями, но, кроме дедова брата, я не помнила, кто кем кому доводился. У могилы росла липа. Памятник потемнел от липового сока — странно, потому что был уже конец августа. Видно, июльский сироп год за годом впитывался в камень. На прощанье мы поцеловались, и мне снова почудилось, будто я касаюсь губами только что написанной масляными красками теплой картины.
Читать дальше
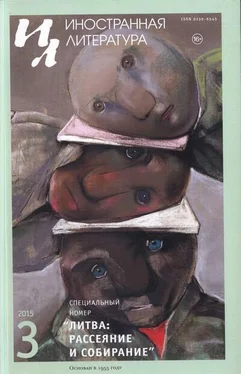






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


