Ничего, действительно ничего священного — мама неверным шагом ходит по недавно заснеженному двору с мисками и ведрами, куда будут складывать внутренности свиньи: исходящие паром, сереющие, отливающие синевой кишки, печень, легкие, почки… Раньше, когда еще зимы были богаты снегом, отрезанную голову свиньи клали прямо в сугроб, чтобы снег вытянул кровь и тепло из освежеванной туши. Теперь, когда снега все меньше и меньше, его заменяет большой, темно-зеленый эмалированный таз с холодной водой, которая, когда в нее окунают голову, мгновенно превращается в темно-кровавую жидкость.
Все-таки это напоминает ритуал: отец запрягает кобылку Ширмойи, ибо последнюю свинью (их уже больше не будет) забили прямо в загоне и, чтобы вытащить ее оттуда, потребовалась лошадиная сила; потом отец взбирается на сеновал в хлеву и подает мне старые двери — они служат алтарным столом, на котором будет принесена в жертву освежеванная туша, ее опаляют, отмывают, отскабливают ножом до желтоватой белизны, а после — разделывают. Трудно сказать, когда именно действия, напоминающие ритуал, приобретают характер сакральности: может тогда, когда тушу свиньи взгромоздили на двери и мы с отцом закурили, или в то время, когда по двору разнеслась вонь горящей щетины, а может, после традиционных маминых слов «бедненькая животинка». Или тогда, когда небесная невеста — негритянка Мария, черным-черная опаленная свинья — лежит вверх ногами и нож отца, ранее опущенный в горячую воду, оставляет первую желтовато-белую полоску у опаленных, от жара сжавшихся сосков, так и не испытавших восторженного трепета материнства. А у меня все еще дрожат руки от напряжения, с которым пришлось держать опрокинутую на бок свинью, чьи ноги были связаны веревками, пока отец ножом искал сердце. И, само собой, от криков агонии.
Мое сознание, заполненное руинами знаний и извращенное искушениями интеллекта, — вот что более всего виновато в том, что обычное закалывание свиньи бродит по фантасмагорическим каналам ассоциаций. Вот отец раскаляет копыта свиньи, они блестят, как уголь, и, когда отец круговым профессиональным движением запястья выдергивает их и, почти горящие (мне совершенно непонятно, как он не обжигает рук), резко отбрасывает прочь, я всегда припоминаю «Распятие» Матиаса Грюневальда: страшно вытянутые вверх пальцы умирающего Христа, так бессильно и вместе с тем с упреком устремленные к небу — почему-то, несмотря на гелиоцентрическую систему Коперника, я все равно думаю, что Бог наверху, даже если этот «верх» совсем рядом.
А когда отец, закончив ритуал скобления и обмывания свиньи-невесты (она сегодня венчается со смертью, это может подтвердить и ржание апокалиптического коня Ширмойи в хлеву), отрубает ей голову (обезглавленный Иоанн Креститель всякий раз собирает рыбаков возле подернутого тонким льдом озера для исполнения апостольской миссии), появляются и первые христиане, изголодавшиеся по крови Спасителя — ватага котов, жадно лакающих темно-красные лужицы, текущие из-под снега медленно, но упорно; одному котенку кровь все капает и капает прямо на голову, а он всякий раз так смешно ее стряхивает, словно хочет избавиться от чувства вины. Стряхивает, но не отступает.
Где я и каким они, мои родители, меня видят, существую ли я для них в тех пробелах пространства и времени, между редкими телефонными звонками или еще более редкими посещениями их дома, или, наоборот, — где они для меня, можно ли те пространственные и временные просеки заполнить банальными фразами «соскучился без вас», «думал о вас»? Стоит ли поднимать такие мазохистские вопросы?
Но почему такими страшными бывают угощения (и вообще пребывание в гостях у родителей) после заклания свиньи, когда у хлева остается лишь снежно-кровавая каша, по которой ковыляют бродячий пес и несколько наглых ворон, а привязанный у своего жилища полусеттер, получерт-знает-кто, Спрагтукас, сходит с ума, потому что не может добраться до галок, устроившихся на клене, а может, и до тех самых призрачных каркающих ворон, ибо тьма так быстро вырастает сама из себя и так быстро стирает видовые различия явлений и предметов мира, что кажется, будто даже голос собаки начинает застревать и, наконец, окончательно запутывается и исчезает в ее неуютных погребальных одеяниях.
И тогда больше всего хочется убежать — от крови и запаха жертвы, от усталости и долгого послеобеденного, с трудом перевариваемого обильного угощения в родительском доме, словно где-то существует другая, качественно другая жизнь, уютные мгновения, по которым тоскуешь. Если я и могу любить родителей, то лишь жестокой остраненной любовью, ибо нет этого «где-то», и я все равно хочу убежать и бегу от покрытых язвами, прямо по-живому гниющих отцовских ног, от изъеденных кислотой и до крови потрескавшихся материнских рук, от их не назойливой, но самой настоящей заботы обо мне — о том, чтобы мне не было холодно спать, чтобы я вкусно и досыта поел, чтобы в моей жизни все было хорошо.
Читать дальше
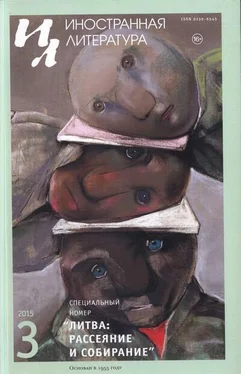






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


