Бежать не потому, что мне неприятны их болезни, знаки их старости, мелкие пороки, а иногда и детские капризы, — я не могу их любить вблизи, мне необходима проклятая дистанция, территория воображения, где живут умершие символы и где на омерзительном алтаре, находящемся между действительностью и идеалом, происходит беспрерывный, бессмысленный ритуал жертвоприношения. Фрейд? Но я никогда не отождествлял мать с Пресвятой Девой, никогда не испытывал ужаса оттого, что моя мать, по словам философа, — всего лишь шлюха моего отца. И даже в самые мрачные периоды истории нашей семьи я не хотел убить отца, даже напротив — еще больше любил его и скучал по нему там, в том нереальном пространстве проклятых символов и непрекращающихся напрасных жертвоприношений. Даже более того — ибо и свой дом, и свои храмы я строил на песке, и страшно было их разрушение.
А двери в иной мир мать уже вымыла, мы с отцом отнесли их в хлев, на чердак, где вечность дышит затхлым прошлогодним сеном.
Однажды я их заснял: отца, режущего свинью, механическим сепаратором отделяющего сливки, и мать, колдующую над плитой, изготавливающую творог, потом — домашние сыры; едящих за столом, бранящих пса Спрагтукаса, перебрасывающихся словами. Они не поняли, что такое видеокамера, слово «снимать» для них связано с кино, телевидением, с тем, что происходит где-то по ту сторону экрана, но не здесь, не с ними.
Никогда я не видел и, должно быть, уже никогда не увижу своих родителей такими, как тогда, когда я — позднее — привез видеомагнетофон и показал им их самих: они смеялись, вскрикивали, толкали друг друга, как дети, сердились и снова смеялись, потешались друг над другом и все показывали мне — посмотри, это же мы, это нас показывают! Верю, что в то время, в то жалкое видео-время, они снова любили друг друга так, как когда-то в юности, когда хотели жить вместе, когда вожделели друг друга, мечтали иметь детей, сына.
Заключительный план этой пленки (снимал я уже перед отъездом и — как же без символики! — из комнаты, через стекло): у сарайчика отец топором рубит ребра свиньи, а мама, припав на колени у колоды, придерживает их, чтобы не упали на землю. А ведь на самом деле на этой колоде должна бы лежать моя голова.
Юлюс Саснаускас
Вкус мацы
Перевод Томаса Чепайтиса

Не скажу точно, сколько лет подряд составители нашего «Католического календаря» 23 сентября, день Холокоста, «сдабривали» рекомендацией: «Желательно помолиться о том, чтобы человек не был жесток к ближнему своему». Правда, сейчас этой фразы уже нет, изъяли. А раньше я все ругался по радио: пусть сопроводят тем же напутствием и 14 июня [176] В Литве — День траура и надежды. В этот день в 1941 г. начались массовые депортации литовцев в Сибирь. (Здесь и далее — прим. перев.)
, и 13 января [177] В Литве — День борцов за свободу. В этот день в 1991 г. погибло 14 человек, защищавших здание Комитета радио и телевещания Литвы.
. Может, редакторы меня услышали, а может — сами одумались, или просто фраза им надоела. С недавних пор католики Литвы могут в этот день наслаждаться свободой мысли и молитвы. Хошь — молись, хошь — и вовсе не молись, если не молится.
Мне чаще всего просто не молится. Не только в этой интенции [178] Интенция в католичестве (лат. intentio «стремление») — то, о чем кто-либо просит в молитве. В данном случае «в интенции календаря» просят о том, чтобы человек не был жесток и т. д.
— чтобы люди не были так жестоки. Чего мы вообще вправе просить у Господа — если вспомнить, что творили с еврейским народом у нас и повсюду вокруг? Я никогда не сумею — да и все мы вместе не сумеем — оплакать эти сгорбленные, в лохмотьях, фигурки, воплощения чистой скорби, согнанные по вильнюсским улочкам в Понары на массовую бойню. Из теплушек, бывало, возвращались, но из той процессии и из других таких же процессий не вернулся никто и никогда. Вымолить им Вечный покой? Если Господь рискнул взять себе имя Спасителя, он сам должен бы собрать души убитых, особенно души невинных жертвенных агнцев. Каплями невинной крови, словно вотумами [179] Вотум — вотивный дар: сердца, руки, ноги — таблички, сделанные из дорогих металлов, которые вешают в алтаре в знак благодарности за услышанные молитвы.
, украсить стены Царствия Небесного. Мы слишком малы, слишком никчемны, чтобы смотреть им в глаза. Я мог бы просить у Небес только вечного беспокойства нам, живущим на этой земле, в этом городе, окутанном ласковыми еврейскими эпитетами и за несколько месяцев пожравшем все, что тут было еврейского, всех до последнего детей этого народа, как будто жизнь их была ошибкой, недоразумением, злом.
Читать дальше
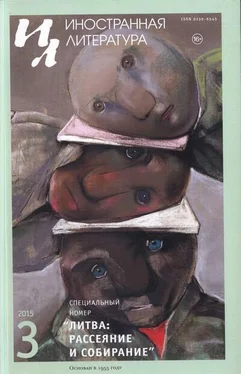







![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


