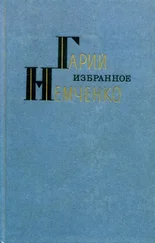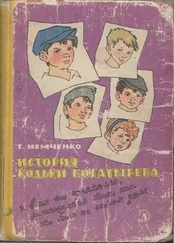Старик Богданов, когда они закрыли двери, развел перед Громовым руками:
— Такой, вишь, молодой, а…
Громов, судорожно разворачивавший сверточек из бумаги, отмахнулся: некогда — после.
И отвар из гранатовой кожуры тоже Артюшке не помог.
Через сутки, когда уже нечего было ждать, Громов снова раскрыл кастрюльку, в которой отваривал гранат, и долго смотрел на размякшую от кипятка кожицу. Тогда он не успел хорошенько рассмотреть, торопился, а теперь припомнить попытался: что там было? Достал со дна кастрюльки совершенно побелевшие кусочки, стал на клеенке, как разорванную записку, по частицам кожуру собирать — маленький получался гранат, меньше детского кулачишка. Может, был неудачный какой, либо незрелый?
Вечером после смены опять пришел Казачкин, опять повис в дверях.
— Что нового, бригадир?
Громов убрал со лба рассыпавшиеся волосы, которые отросли настолько, что мешали смотреть.
— Не та граната.
— Гранат, — твердо, с расстановкою поправил «химик».
— Я и говорю: не та граната.
— А почему не тот гранат?
— Ты зайдешь или тут будешь висеть? — спросил Громов.
«Химик» подался лицом поближе, почти глаза в глаза посмотрел.
— Завтра еще зайду, бригадир.
И опять, ничего больше не сказавши, захромал вниз.
Громов долго еще дверь не закрывал, все прислушивался к затихавшим внизу шагам — так оно вроде лучше думалось.
Почему он все-таки, этот «химик», в его дела встрял?.. Или хочет, чтобы Громов забыл про финку у него за голенищем? Тогда, пожалуй, поласковей был бы. А этот не заискивает, нет, а гнет какую-то свою линию, только вот на самом деле — какую?
5
Под сиявшим ярко, но уже не горячо солнышком прозрачной осени среди бескрайних, отягощенных перезревающими кистями виноградников длинные стояли столы, и за столами сидело множество грузин, все одни мужчины в черкесках и с большим рогом вина в правой руке, и среди них сидели в центре Громов с Артюшкой, только Артюшка был уже большой парень, парубок был, красавец, и на него, и на его отца все оборачивались, смотрели, когда поднимали вино, а на столах стояли увитые виноградными лозами большие четверти и с красным, и с белою, лежали на громадных блюдах да на подносах горы всякой притрушенной зеленью еды, а между ними виднелись невысокие, но плотные пирамидки из отборных переспевших гранатов. Артюшка не пил, рано, за него пока отец отдувался — парень один за другим разламывал брызгавшие алым соком, стрелявшие рубиновыми зернами гранаты и медленно нес их ко рту, жевал не торопясь, вытягивал губы, чтобы пивнуть из корочки сок, а сам поглядывал через стол на изумрудную лужайку, где в неслышном танце на фоне далеко синеющих снеговых гор медленно плыли девушки в белых одеждах с длинными и косыми как лебединое крыло рукавами…
Потом вдруг послышался тонкий ноющий звук, все нарастал и нарастал, зудел так, как будто по липкому бездорожью шли с пробуксовкой, и выплыли откуда-то сбоку набитые ребятами в кирзачах да в ватниках два самосвала, и на подножке переднего стоял комсорг с белобрысым ежиком и в выгоревшей штормовке.
Громов выскочил из-за стола, бросился наперерез, грозя кулаком, и самосвалы, гудя, стали медленно отваливать в сторону.
— Что случилось, дорогой? — спросил тамада или кто там у них старший, когда он вернулся за стол, и Громов сказал с нарочито равнодушной усмешкою:
— Так, по работе.
Снова пили вино, а выросший сынок Громова, Артюшка, все разламывал гранаты, снова танцевали девушки в белом на фоне далеких гор, когда самосвалы, сделав круг, стали приближаться, противно нудя, и Громов опять хотел было вскочить, но тут сидевший с другого бока тамада положил ему руку на плечо, а другою махнул, дал знак, из-за стола встали седобородые старцы, каждый с большим рогом в руке, пошли навстречу машинам. Самосвалы качнулись на одном месте, шумнул в рассиверах воздух, из кузовов потянулись вниз руки. Чтобы выпить из рога, парни запрокидывали головы, и кто-то первый уже запел «Я люблю тебя, жизнь», но его перебили, на кабинку переднего самосвала вскочил белобрысый комсорг в выгоревшей штормовке, стал выделывать ногами и руки выбрасывать вбок — плясал лезгинку. Эти, в телогрейках, бетонщики, били в ладоши и сперва — «А-на-на-на-най — а-на-най-на!» — подпевали хором, а потом вынырнул среди них однорукий воспитатель Мутызников, ударил себя ладонью о колено, слабым, срывающимся на писк голоском выкрикнул:
— А курица зайца любила,
Она ему яйца носила!..
Читать дальше