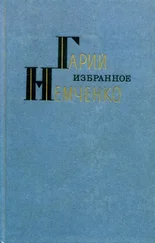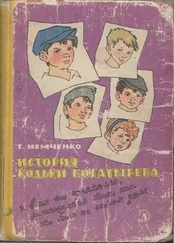Белобрысый комсорг заработал ногами еще чище, гулко застукотел по кабинке.
Мутызников лихо тряхнул длинным чубом:
— Укусила муха собачку… ас-са!
Но тут вдруг приподнялись вверх стены высоких зданий, один от другого стали отделяться торцы и коситься крыши, а потом все это начало криво, кое-как опускаться на землю, оседать, рушиться, взметнулось вверх облако пыли и дыма, закрыло все вокруг, и видно было теперь только одно: как, прогибаясь, треща по швам, разламывался длинный и прочный корпус гигантского цеха, распираемого изнутри медленным тугим извивом заполнявшего почти все его нутро раскаленного докрасна стального бруса…
Громов перекатил голову, чтобы подушка не закрывала ухо, и прислушался, словно пытаясь уловить отголоски этих испугавших его страшной своей немотой близких взрывов.
Стук сердца нарастал, оно все еще торопилось туда, где не успел побывать проснувшийся Громов, и, повинуясь этому отчаянному стуку, он рывком теперь поднялся с постели, босиком прошел через комнату, стал у окна…
Поверх заледенелых, расчерченных антеннами крыш он долго вглядывался туда, где завод, но в той стороне все было как обычно: поигрывали за синеватою дымкой сполохи, словно двое или трое в разных концах тихо да мирно перекуривали — то кто-нибудь зажжет в ладони полыхнувшую полосой света спичку, а то начнет попыхивать папироской…
Получше прикрыв Артюшку, он лег на спину, туда-сюда качнулся, чтобы прихватить с боков одеяло и, согреваясь, стал припоминать то, что снилось.
Сколько лет, казалось ему, он не вспоминал о Мутызникове, а тут на тебе — явился не запылился… Только почему без Июньки?
Июнька был чеченец, по-ихнему то ли Юнус, а то ли Юнис, как-то так, родители его умерли в поезде, когда после войны ехали на Урал, а сам Июнька сильно заболел, его ссадили, а после больницы привели в детский дом.
Хоть плохо по-русски разговаривал, парень он был хоть куда, но воспитатели его почему-то не очень любили, один Мутызников, бывший кавалерист, всегда за него заступался и готовил к Октябрьской номер — лезгинку. Ни гармошки, ни какого-либо другого инструмента в детдоме не было, вот это и все, что Мутызников хлопал себя единственной рукой по колену да кричал про курицу с зайцем и еще про собачку, но Июнька со столовым ножиком в зубах плясал яростно, на одно колено в конце упал так лихо и так сильно, видно, ударился, что слезы на глазах показались. Лезгинка всем понравилась, повариха потом стала ему нет-нет да лишнюю картошину на тарелку подкладывать… Почему не привиделся Июнька?
Он попробовал вернуться ко сну, прикрыл глаза, чтобы снова увидать и столы посреди виноградников, и грузин в черкесках, и синие горы, но в это время неожиданно, без единого всхлипа, сильно, как резаный, зашелся плачем Артюшка, и Громов снова вскочил, наклонился над кроваткой.
— Артюш, маленький?! Что такое, Артюш?! Ну, успокойся, успокойся. Ну, что такое, Артюш?
Теплое Артюшкино тельце тряслось напуганно у него под ладонью, и он взял мальчонку на руки, прикрыл ему спинку краем одеяльца, прижал к себе…
Артюшке, выходит, в одну минуту с отцом тоже что-то недоброе приснилось — он-то, кроха, чего такого мог увидать?
Обхватив мальчонку обеими руками, приподнявши плечи над ним и сгорбившись, Громов стоял посреди комнаты, неумело поводя всем корпусом с бока на бок, и вдруг перестал Артюшку покачивать и замер — толчком крови, тугим шумком, тронувшим ему уши, остановила догадка: собственный сон был про то, что не видать его сыну счастья.
Тяжело колыхнулась в Громове и старой болью засаднила затаенная издавна обида на жизнь и яростно-молчаливый укор ей: ты обогрей человека, добра для него и света не пожалей, вот что, а хитрое ль дело — маленького да беззащитного обидеть его?..
И опять показалась ему непреодолимой сынишкина несуразная хворь: уж если наметила что судьба, не мытьем своего добьется, так катаньем. И опять закипело в нем: все сделает, лишь бы Артюшку спасти, все, лишь бы только дальше хорошо у него сложилось… а сложится?
С тревожным непокорством впервые вглядывался он в ожидавшую крохотного его сына неизведанную даль: что там, впереди, что там?.. Вот оно, это первое испытание, закончилось, снова Артюшка весел и здоровехонек, смеется себе, закатывается, а новая беда уже ждет: вон как носятся по улицам машины, вон что творится на переезде в самом центре — какой только дурак это придумал, железную дорогу проложить посреди поселка?! Если обойдется и тут, если Артем, выросший уже, вместе с подлодкой где-либо не утонет, не сядет в самолет, которому суждено будет разбиться, отведи от него, если ты есть, господь, хулиганский ножик!.. Уцелеет и тут, женится, соберется, глядишь, детишек завести, и — война… В бригаде недавно газетку приносили, написано было, сколько по всей земле газов и всякой другой отравы, сколько патронов, сколько снарядов тяжелых, сколько ракет и сколько бомб на каждого человека заготовлено. И на Артюшку — тоже. Выходит, что так или иначе, а нет ему, маленькому, спасенья?.. Кто там есть?! Слышишь?! Сделай так, Христа ради, чтобы это сам Громов от болезни помер. Чтобы это его сшибла электричка. Его бы хулиганье растерзало. А с тем, что на одну живую душу припасено, так: помножьте вы это на два. Поставьте потом Громова перед всем миром, лишь бы маленького Артюшку подальше в сторонку мать отвела… А потом давай на меня этот газ. Порошком по норме посыпь. Выпусти всех, какие причитаются, заразных бактерий. Расстреляй до единого патроны. То, что от меня останется, ветром развей. Не забудь про тяжелые снаряды. И уж коли положено, отдай, не греши — кинь напоследок бомбу… Только не тронь мальчонку! Пусть живет.
Читать дальше