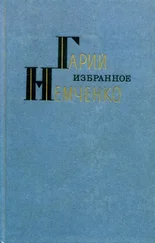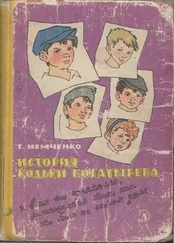Сломался Валька, сломался… Да только Громов тебе — не Валька!.. Не возьмешь ты Громова на притужальник, Шидловский, у тебя, гад, радости такой, какая только что была у Громова, в жизни не было никогда и помрешь — не будет!
Разберутся с тобой, разберу-утся!..
Разве его, Громова, Петрухин не знает да не поддержит?.. Или тот же татарин Рамзанов?.. Или Крепкогонов Иван, да Науменко, да Боря Кузьмин, да скольких еще назвать можно!
Да а если даже и не разберутся?.. Что у Громова — рук-ног нету? Работы он себе не найдет?
Да нет, разберу-утся!.. Про него-то, про Громова, в управлении знают, что он лишней копейки никогда…
Только как же все это про Шидловского сказать?..
А никак!
Подойдет завтра Шидловский, посмотрит на Громова, как всегда, — смотреть, как солдат на вошь, гад, умеет!.. А его по морде!
К-ы-ык дам по морде!.. А потом разберемся…
Только не очень надо, а то еще копытки отбросит — потом поди разберись…
Дам по морде! Да, а там хоть что! Спросют же: «За что это ты?» — «Да вот за это». — «Как так?» — «Да вот так!»
Оправдываться, оно всегда легче.
А чего это он, Громов, будет оправдываться?
Воровал Шидловский? Воровал. Ну так и будь здоров! Ухряпал же он Вальку тогда, а почему Шидловского — нет?.. «Ухряпаю, — думал Громов. — Устосую, чтоб не застил!..»
«Хыг!» — он даже выдохнул громко, как при ударе.
А в голове вдруг такое: бьет он, Громов, Шидловского, а в это время, откуда ни возьмись, — Виталька…
Замер — ничего пацаненку непонятно, только глядит испуганно, вот-вот закричит…
Громов прогнал Витальку, зачем пацану на такое смотреть? Удалил от себя: раз — и нету! Замахнулся на Шидловского без него, а Виталька опять — вот он!..
Снова ударил его Громов, но и Виталька снова, как ванька-встанька, настырный, чертенок, фу ты!
И тогда Громов отложил в голове это дело, чтобы мальчишка успокоился и ушел.
Около гастронома, все так же уютно светившего витринами, Громов повернул за угол, и снег, летевший теперь наискосок, падал ему на лицо, заставлял жмуриться, и он жмурился и довольно покачивал иногда головой: вот повалил!
Ему залепило и грудь, и плечи, и он сунул под полу между пуговицами большой палец и тряхнул пальто спереди и раз, и два, и почувствовал во внутреннем кармане поллитровку.
Громов тихонько рассмеялся и сунул руку поглубже, двумя пальцами взяв бутылку за горлышко.
Он посмотрел туда-сюда, шагнул поближе к стене дома, мимо которого проходил, достал бутылку и, найдя металлический язычок, содрал головку.
Перевернул бутылку, и внутри булькнуло, и водка, захлебываясь, рваной струей ударила в снег…
Громов повернулся, и снег снова бросился ему в лицо.
Несмотря на позднее время на остановке была толпа.
Стояли, как всегда, скопом — совсем густо в центре толпы, пореже — по краям.
Громов обошел сзади и остановился напротив центра.
Снег все шел и шел, густой и тихий.
За сумеречной его пеленой под темнеющими смутно гнутыми стеблями фонарей холодно серебрились голубоватые конусы света, а над ними была почти ощутимая глазом тишина, и была темнота, низкая и глухая, и за просторной и пустынной в этот час площадью верхние окна противоположных домов теплели в ней ярко, хотя смотрели как будто бы очень издалека.
Над изжелта-синими витринами тоже повисла иссеченная белым и здесь и там пробитая красноватыми окнами темнота; и каждое окно, светлое и слепое, и пустые балконы были подчеркнуты густой кромкой снега; а справа и позади, оглядываясь, Громов увидел и разноцветный неон, замерший над зданием вокзала, и глухие, подсвеченные багровым дымы за ним, и вознесенную над лестницами виадука елочную россыпь огней, вокруг которых безмолвно роился снег.
Было во всем этом что-то новогоднее, было праздничное — такое, когда еще до водки, до шума и сутолоки за столом, еще совершенно трезвый, уловишь ты вдруг в самом себе минуту непонятной какой-то торжественности и тишины, и задумаешься неизвестно о чем, но очень для тебя важном; и минута эта разбередит тебе душу, заставит вспомнить о давно забытом; и воспоминание это будет и радостным и горьким сразу, и будет почти неслышным — было ли, не было?.. И защемит у тебя, здорового дурака, сердце, и неизвестно отчего захочется вдруг тебе заплакать…
И Громов, уловивший сейчас в себе такую минуту, стоял тихонько, словно не ощущая себя самого, но к себе прислушиваясь, и в груди у него отчего-то ныло и ныло — горестно и сладко…
Автобус подошел совсем бесшумно. Громов даже не слышал, очнулся, когда бросились к дверям спереди и сзади, и надвое распалась толпа.
Читать дальше