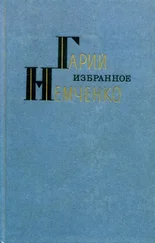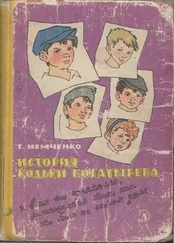Подчиняясь давнишней своей привычке брать место с боя, он шагнул было тоже; и вдруг ему расхотелось в эту давку, расхотелось уходить из этих минут, и он только смотрел, как садятся, как отъезжает так же бесшумно, как подошел, залепленный белым автобус.
1
Несколько дней назад не умевший еще разговаривать мальчишонок Громова, Артюшка, научился как-то по особенному тюрюкать… Мордашка бывала у него при этом слегка задумчивая, глазенки отрешенные, и в горлышке как будто само по себе негромко клекотало и булькало: кырль!.. кырль!
Чуть грустным умиротворением, звучащим в слабеньком голоске, было это похоже на пение сверчка или на тихонькое курлыканье журавленка, и у Громова каждый раз непонятно отчего тонко щемило душу.
Вот он сидит, Артюшка, на ворошке палых листьев, загребет по бокам обеими ручками, приподымет и высыплет… А потом вдруг перестанет возиться с листьями, на минутку прижукнет, и опять: кырль!.. кырль! Значит, сердчишко у него отчего-то шевельнулось, если снова заворковал… отчего? Может, оттого, что небо над ним такое синее да высокое, а горка листьев, притащенная ветром под стенку дома, в затишек, такая мягкая да золотистая, и хорошо на ней посидеть, и хорошо поваляться?.. Может, оттого, что сам Артюшка такой кроха, а Громов, стоящий над ним, его отец, такой великан в кирзовых сапожищах да в ватнике, и с ним тепло да спокойно?..
И Громов невольно переступил с ноги на ногу, становясь на земле поуверенней, и невольно шевельнул плечами, поворачиваясь и поводя взглядом, как бы ища и в воздухе, и вокруг на земле что-то такое хитрое и злое, что могло вдруг спикировать сверху или кинуться сбоку и унести Артюшку, как коршун цыпленка…
Повсюду стояла тишина, это был тот короткий час, когда стройка только что вернулась со смены и еще не успела переодеться да высыпать обратно на улицу. И все вокруг было привычно своим: и светло-серые коробки блочных домов, на краю поселка стеснившие осколок дочиста облетевшей рощицы, и площадки между домами, где еще не успели разбить газоны и где среди недотоптанной ребятней пожухлой травы то здесь, то там высились уже ютившие в густоте ветвей вечернюю дымку березы, и ранняя и потому пока совсем одинокая звездочка, такая мирная над покатым горбом ближней сопки…
Это была обычная, какую Громов каждый день тут видел, картина, но с некоторых пор стала она ему безотчетно нравиться, он вдруг с удивлением понял, что можно, оказывается, глянуть на все на это раз и другой — и на душе у тебя непременно посветлеет. Раньше он такого не замечал, может быть, потому, что всегда спешил — то на работу, а то поскорее домой — и по сторонам, пожалуй, особо не глядел, чего глядеть; это теперь, когда под ногами у тебя копошится пацаненок, а ты, как сторожевой гусак, тянешь шею, есть у тебя время и поглядеть кругом, и потихоньку подумать.
И Громов смотрел и думал: осень эта стала для него особенною, вся запомнилась, ему казалось иногда, что потом, когда пройдет время и многое сотрется, многое уже потускнеет и забудется, она так и будет сиять в памяти тихим солнышком над неостывшей еще землей да глубокой далью над неслышными золотыми лесами…
В сентябре и до половины октября держалась ровная сухая теплынь, дожди моросили мелкие, как будто нарочно только грибные, первый снег упал совсем небольшой и легкий, листьев тоже не обломал, и деревья так и стояли в пышной своей красе — и по окраинам поселка, и на сопках, и в окрестной тайге. Светлыми от многозвездья ночами поскрипывали молодые морозцы, пробовали войти в силу да прихватить покрепче, но уже далеко перед полуднем отлетали от земли еле заметной дымкой, растворялись то ли в прозрачной голубизне, растекшейся по ложкам да низинкам, то ли в золотистом мареве, которым отсвечивали гретые бока косогоров да крутые макушки сопок.
В природе стояла задумчивая и как будто чуть грустная тишина, и однажды Громов услышал высоко в небе еле слышный переклик журавлей, в другой раз видел, как на зорьке низко над землей летели гуси, он никогда не видел их так близко, казалось, до него дошло даже птичье живое тепло, и ему теперь представлялось, что этой осенью все происходит, как когда-то, может быть, очень давно, может быть, сто, а может, и тыщу лет назад…
Потом всю ночь густо шумело и подрагивало где-то вверху, а по земле свистел резкий ветер, говорили после — циклон, и наутро все сделалось голо, ничего не осталось на деревах, зато по поселку лежали там и тут вороха палых, но словно еще живых листьев, притащенных бог знает откуда, было очень холодно и знобко, и вокруг стало не то чтобы просторно, а как будто бы пусто — темно-синие теперь дали отодвинулись бесконечно, и куда-то туда, страшно далеко, в наступившей опять тишине словно все еще продолжало катиться что-то протяжное и гулкое.
Читать дальше