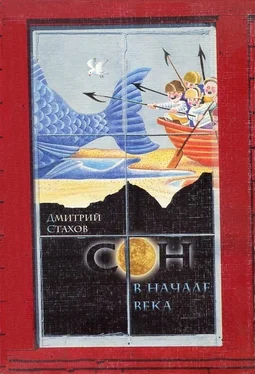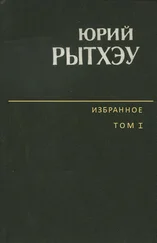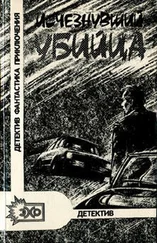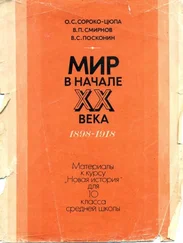Бывшая жена заместителя начальника политчасти столовой замотала головой, из глаз ее выдавились маленькие капельки гноя, зрачки побелели.
— Я отомщу! — сказала она как-то буднично. — И месть будет сладка!
А бедолага увидел, как из черного лимузина вышел Половинкин-второй. Услужливый молодой человек раскрыл над Половинкиным-вторым большой зонтик и, следуя за патроном на полшага сзади, сопроводил того к другому лимузину, из которого с помощью следующего услужливого молодого человека выбрался Половинкин-первый, а следом за Половинкиным-первым — его жена, в девичестве Абуянчикова, очень крупная женщина с тремя подбородками, с наплывающей на маленький шарообразный затылок шеей, на тумбах-ногах, вся в кольцах, браслетах и цепочках. Половинкин-первый раскрыл объятия Половинкину-второму, Половинкин-второй ткнулся носом в плечо Половинкину-первому. И зарыдал. А Половинкин-первый зарыдал следом. Абуянчикова же, шурша браслетами, поднесла к лицу большую руку и закрыла маленькие, словно бусинки глаза, а тело ее также сотряслось от рыданий. И пока эти трое стояли вот так рядом, и вот так вот рыдали, из лимузинов выгружались прикинутые дети Половинкина-первого, престарелые родители Абуянчиковой, американский дядя Половинкина-первого и его филологическая дочка, братишка Половинкина-второго в скромном костюме за пять с половиной тысяч долларов, его сестра вся в наимоднючих траурных одеждах, его отец в тирольской шляпе, мать в переднике и деревянных башмаках, еще какие-то люди, люди, люди, среди которых бедолага мог узнать и гостей из поместья Половинкина-второго и даже ту самую, взыскующую любви женщину, которая давно, уже так давно перевязывала бедолагины раны, бедолагу ласкала, миловала и говорила ему хорошие слова. А еще из других лимузинов вылезали милицейские начальники разных рангов, в лампасах и без, бородатые молодцы с зелеными повязками на головах, мужчино-женщины и женщино-мужчины, голые дикие бабы и даже сам Аркадий Бронштейн собственной персоной вместе с губернатором солнечного острова на далеком море. И все эти люди, и даже не люди, и даже нелюди, и даже туманные образы снов Половинкина-второго, все вместе, все соединенно и сообразно месту, времени и действию, все воочию подтверждали, что фантазии, нас окружающие, мечты, нас манящие и продвигающие, суть исключительно ложь, но в желании невозможного, набухающем в нас изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту, заключена главная правда, а способность грезить всегда и везде — основа жизни.
И мысль об этом, о такой именно правде и об именно такой жизненной основе проникла в бедолагу и вонзилась ему в сердце тупой и тяжелой иглой. Он начал хватать ртом воздух, медленно оседать на траву под сенью сирени, но никому до него дела не было, ибо несколькими мгновениями раньше бывшая жена заместителя начальника политчасти столовой вытащила из сумочки — не многозарядный пистолет и не взрывное устройство! — букетик маленьких искусственных цветов и заголосила неожиданно высоким и пронзительным голосом:
— Ой, на кого же вы нас оставили?!
Но на этот раз бедолага не умер. Уже после того, как траурный кортеж уехал на кладбище, бедолагу нашел старший патанатом, вышедший курнуть на свежем воздухе. Старший патанатом сразу узнал в лежащем бедолаге бывшего мужа той самой женщины, благодаря щедрым пожертвованиям которой старший патанатом мог совершать вскрытия без заботы о хлебе насущном. Бедолагу перенесли в корпус, положили в палату, присоединили к приборам, влили в него изрядную дозу требуемых лекарственных средств, и когда он пришел в себя, то сразу узнал, что в тот момент, когда ему стало плохо, его дочь совершенно неожиданно пошла на поправку. Более того! Уже через пару дней дочь бедолаги, сбежав от медсестер и врачей, пробралась в палату к отцу и рассказала тому всю романтическую историю про любовь молодой жены Половинкина-второго и самого юного из услужливых молодых людей, историю любви, так трагически кончившейся. Дочь бедолаги мечтала о такой же, она грезила ею — именно это увидел бедолага в ее глазах. В его сердце вновь вонзилась тупая и тяжелая игла, но на сей раз он не потерял сознание, а нашел в себе силы попросить дочь удалиться, ибо и ему и ей прописан постельный режим, ибо и ему и ей очень вредно волноваться.
— Но завтра я обязательно приду! — сказала дочь бедолаги.
— Конечно, конечно! — ответил бедолага.
Дочь дошла до дверей палаты, остановилась и спросила:
Читать дальше