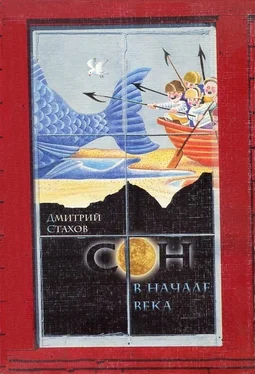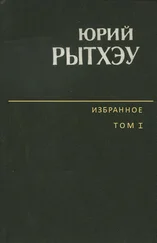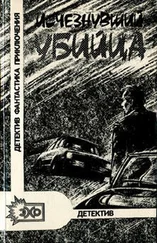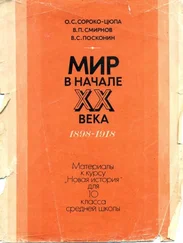С гиканьем, в клубах пыли, от города приближалась странная повозка: огромные колеса, запряженная то ли ослами, то ли пони, на повозке — тоже голая баба, но вокруг ее мощных бедер намотана толстенная золотая цепь. Все начали целовать ей руки, валиться перед нею в пыль, лизать следы ее ног, но она сдернула с бедер цепь, огрела ею ближайших, а потом подошла и, накинув цепь мне на шею, ее свободные концы отдала державшей меня за руки. Все прочие заныли, понурились и пошли к городу, а приехавшая, вскочив на повозку, помчалась обратно, пинками отгоняя не успевших отойти. Цепь оказалась тяжела, моя голая баба почувствовала себя хозяйкой, пару раз дернула, заставила меня ей подчиниться и тоже идти в сторону города, но это все меня не очень-то расстроило. Вот те, кто был впряжен в повозку! Это были изможденные, с текущими слюнями, все в кровоподтеках, голые мужики!
Голая баба привела меня в город. Его стены были очень высокие, ворота — из сверкающей меди, улицы — узкие, дома — серые, с окнами-бойницами.
Дом моей голой бабы от других не отличался. Такой же серый. Внизу — нечто вроде загона для скота, на втором этаже — несколько комнат без мебели, только циновки и набитые соломой подушки на полу, лестница на крышу, где тоже разбросаны циновки и подушки. Баба втолкнула меня в одну из комнат, вошла вслед за мной, и тут уж мне некуда было деваться: она сначала сорвала с меня одежду, отняла и бумажник и паспорт, а потом — прошу прощения у милых дам! — трахнула меня, да так, что я забыл как меня зовут, а потом задернула занавеску на большом, забранном решеткой окне, гордая и воняющая еще сильнее, унося мою одежду из комнаты, вышла и дверь закрыла на засов».
Тут Половинкин-второй прервал свой рассказ, предложил всем продолжить трапезу и хлопнул три раза в ладоши. В залу начали вносить накрытые блестящими крышками блюда с горячим. А Половинкин-второй не просто велел вносить и раскладывать горячее и наливать гостям побольше вина, но и сопроводил свои приказания следующими словами:
— Этих барашков выращивал мой лучший друг Резо. Он ухаживал за ними, как за собственными детьми, собственноручно поил молоком, держат у себя в доме, вывозил выгуливать на поляну у самой границы снегов. Он сам их привез несколько дней назад, сам же их и зарезал. Вот он сидит, мой друг Резо. Резо! Встань, пожалуйста, я хочу чтобы мои дорогие гости узнали — кто мой лучший друг!
Из-за стола поднялся большой и лысый человек с таким печальным, словно перевернутым лицом, что Половинкин-первый сразу подумал: да, действительно барашки были для Резо словно собственные дети, Резо никак не отойдет от детоубийства, горе его велико и неизбывно.
Тут Половинкин-второй попробовал мясо, закатил глаза к потолку, после чего, приложив руки к груди, поклонился Резо, также ответившему ему поклоном. Потом Половинкин-второй отпил глоток вина, промокнул губы салфеткой и, прервав стук вилок и ножей, продолжил свой рассказ:
«Первым делом я проверил дверь и убедился, что открыть ее изнутри нет никакой возможности. Потом я отдернул занавеску окна и увидел, что окно забрано толстой решеткой, выходит в узкий двор, а в доме напротив, в точно таком же окне, за точно такой же решеткой, стоит какой-то голый человек, весь в синяках, с порванной губой, а по лицу его текут слезы. Я провел рукой по глазам, обнаружил, что они мокры, что слезы и на моих щеках, и заметил, что голый человек напротив в точности повторяет мои движения: за окном, на стене дома, было укреплено зеркало.
В раздражении и злости я задернул занавеску и собрался было улечься на циновку, чтобы сном подкрепить свои силы, но услышал глухой голос: «Эй, мужик! Ты нас слышишь? Мужик! Мужик!» Я попытался понять: откуда идет этот голос, такой трагический и страдающий, и наконец понял — снизу!
Я приподнял циновку и обнаружил, что в полу имеется небольшое отверстие, соединяющее комнату, в которой я находился, с тем помещением, которое я принял за загон для скота. В этом помещении плечо к плечу стояли голые мужики. Их лица были обращены ко мне, глаза полны печали, губы сжаты в отчаянии. Один из них, по-видимому — старшина, с сединой на висках, меня и звал.
— Как ты сюда попал, мужик? — спросил старшина, а когда услышал мой сбивчивый рассказ, горестно покивал лысеющей головой и отметил, что и все они попали сюда после авиакатастроф или кораблекрушений, жили у моей голой бабы на положении рабов: работали в поле, выполняли работу по дому, участвовали в воскресных гладиаторских боях на потеху собиравшимся другим голым бабам, у которых были свои мужики, которые тоже работали в поле, выполняли работу по дому и тоже участвовали в гладиаторских боях. А еще надо было трахать своих хозяек, подруг их и знакомых, а тех, у кого не стоял или стоял плохо, переводили на более тяжелую работу — например, на работу в каменоломнях, а потом и вовсе забивали палками и сжирали на коллективных трапезах или, кастрировав, превращали в уборщиков улиц или чистильщиков уличных сортиров. И ни у кого не было никакого шанса выбраться из этого ада!
Читать дальше