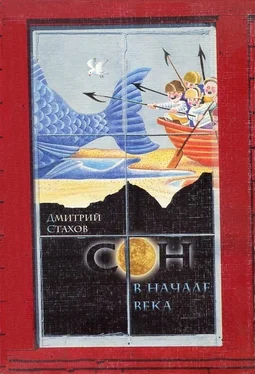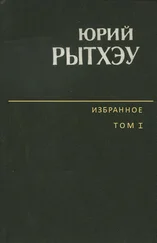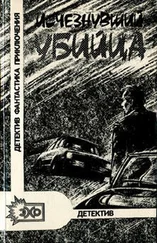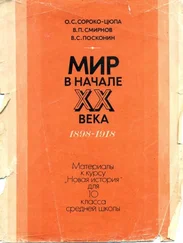Я хотел было задать кое-какие вопросы, но моя голая баба услышала наш разговор. Зажегся свет, раздалась грубая брань, засвистела плетка. Один из стоявших в загоне после пришедшегося ему по плечам удара не поклонился с благодарностью, как требовалось, а осклабился. Его тут же выволокли из загона, и откуда-то взявшиеся другие голые бабы начали его нещадно избивать. Они били его, пока не запыхались сами, а потом бросили умирать. Никто из мужиков не проронил ни слова, молчал и я. А потом тихо вернул на место циновку и размышляя — что мне делать? — затих.
Разбудили меня грубыми толчками. Надо мной стояла моя голая баба. Она надела на меня ошейник и начала нещадно дергать за поводок. Выйдя на улицу, встреченные неистовым улюлюканием, мы оказались во главе настоящей процессии, которая двинулась по улицам города под звуки тимпанов и дудок. Все радовались так, словно у этих голых баб был национальный праздник.
Мы вышли на небольшую площадь перед домом с колоннами, над которым развевался розово-золотой флаг с длинными голубыми лентами. Сопровождавшие нас другие голые бабы отстали, а моя начала сильнее дергать за поводок, стала резче пинать меня ногой и грубее меня ругать. Возле колонн прохаживалась крупная баба с резиновой дубинкой. Я сначала подумал, что это та самая, что вчера приезжала в пустыню, где шла разборка — кому мне принадлежать? — но после того, как мы вошли в этот дом с колоннами, оказалось, что все другие бабы там ходят с таким понтом, словно они не голые бабы, а, понимаешь, таможенники.
Меня ввели в небольшую залу на втором этаже. Голые бабы расположились вдоль стен, в глубине, на возвышении стояло нечто забранное балдахином, скорее всего — кресло председательницы над этими голыми бабами, мэрши или царицы. Моя голая баба в этом доме заискивающе улыбалась, но прочие ее вниманием не удостаивали, а перебрасывались короткими, рубленными фразами на совершенно непонятном мне языке. Увидев, что на нее никто внимания не обращает, моя голая баба решила выместить свою спесь на моей спине и начала нещадно стегать меня плеткой, после чего толкнула вперед и заставила опуститься на колени посередине зала, на маленьком и пыльном, драном и старом коврике. Она еще и ударила меня пяткой по затылку, заставив голову пригнуть так, чтобы перед моим взором ничего, кроме узоров этого коврика, не было.
Воцарилась тишина. Одна из баб произнесла какую-то речь, после которой раздались жидкие аплодисменты. После выступила другая, которую освистали. Третьей вообще не дали говорить. «Все как у людей!» — подумал я, но тут из-за балдахина раздался чей-то натужный кашель. Моя баба подскочила ко мне, схватила за поводок и, подтащив вплотную к креслу, отступила на свое место.
Я был распластан на ведущих к креслу ступенях. Все происходящее со мной виделось мне, как сон, как дурной сон. «Такого быть не может! — думал я. — Я же нормальный мужик, живу в нормальной стране, все у меня по понятиям, со всеми у меня порядок, базара нет никакого, а тут хер знает что, хер знает кто и зачем!» Мне так захотелось проснуться, что я зажмурился, но, открыв глаза, увидел вылезшую из-под балдахина мужскую ногу. Мозоли, грибок, венозный узор, искривленные неудобной обувью пальцы. Все — как полагается. А помимо увиденного я услышал, что из-под балдахина доносится глухой, прокуренный голос: «Ближе, ближе!» Я подполз ближе, просунул голову под балдахин, посмотрел наверх: в кресле сидел обыкновенный мордатый мужик с красным алкашеским носом, с обрюзгшим телом, седым пухом, обрамляющим висящий между ног внушительный член. «Ну что, попался?» — спросил меня этот мужик, назвал по имени, и тогда я узнал его: это был библиотекарь с той самой зоны, где я мотал свой срок, проныра и хитрован».
Тут оказалось, что все гости уже закончили под рассказ Половинкина-второго еду и требуется перемена блюд. Что и было сделано. Подали десерт, коньяк и ликеры. Дамы поднялись, и молодая жена Половинкина-второго попросила позволения удалиться в сад, где для дам были накрыты столы с фруктами, чаем, кофием и сластями.
— Как же?! — удивился Половинкин-второй. — Вы не будете присутствовать при продолжении моего рассказа?
Однако молодая жена Половинкина-второго сослалась на некоторое недомогание, и хозяин настаивать не стал, тем более, что по его лицу сразу угадывалось, что теперь, без женщин, можно будет еще более уснащивать рассказ теми деталями, которые все-таки вынуждено опускались. Женщины покинули зал, остались только мужчины, а Половинкин-первый обернулся к бедолаге и сказал, что ему очень нравится этот рассказ, что он испытывает глубочайшее уважение и к Половиникну-второму и к его многотрудной судьбе. Бедолага пожал плечами, собрался было что-то произнести, но ему налили большой бокал коньяка, дали кусок пирога и чего-то засахаренного, и бедолага занялся делом.
Читать дальше