– Я благодарю Бога, что свел меня с тобой, – негромким и чистым голосом говорила она.
– Я тоже Его благодарю за то, что ты появилась в моей жизни, – отвечал он.
– С Новым годом, любимый…
Он не ответил.
Он приставил к микрофону мобильника плеер, в котором Леонард Коэн пел свою бесконечную и нежную песню «Танцуй со мной до конца любви»…
Услышав, как хлопнула дверь в ванной, Гаевский выключил плеер.
* * *
В отдельном банкетном зале ресторана за час до Нового года помпезный завкафедрой Тормасов держал длинную предпраздничную речь, отвесив каждому преподавателю кафедры по жирному комплименту:
– А в новом году наша кафедра пополнится еще одним кандидатом филологических наук, – Людмила Георгиевна Гаевская завершает свою диссертацию по Набокову и после ее защиты поедет на несколько месяцев преподавать в Париж!
Все сидящие за большим квадратом праздничного стола дружно захлопали.
Гаевский уже не первый раз бывал в обществе этой литературной публики и всегда чувствовал себя неуютно. У всех этих людей были какие-то свои специфические разговоры, в сути которых он не разбирался. Он не понимал, например, почему жена его с таким восторгом, с таким придыханием, закатывая глаза, произносила фамилию «Набоков», подсовывая ему дома романы с названием «Приглашение на казнь», «Подвиг», «Машенька» или «Лолита». С трудом прочитав дюжину страниц, Гаевский откладывал книгу в сторону.
– Для того, чтобы понять великого Набокова, надо иметь тонкие мозги, – с упреком говорила ему жена, – а они, Тема, у тебя только на ракеты, да на эти твои программы и настроены.
После полуночи за праздничным ресторанным столом опять пошел разговор о Набокове. К великому удивлению Гаевского, сидевший напротив старенький профессор Засулич начал отважно сдирать позолоту с кумира Людмилы:
– Прелюбезная моя Людочка, – говорил Засулич, – я бы еще раз предостерег вас от слепой любви к Набокову… Иногда надо бы и критические регистры, та-скзыть, включать.
– Вы о чем, Лев Моисеич? – спросила Людмила, отложив вилку и осторожно промокая губы салфеткой.
– Да я о том, что Владимир Владимирович, высмеивая ухищрения классического романа, не пользуется при этом никакими другими. Как говорил Поль Сартр, Набокову довольно и малого: внезапно оборвать описание или диалог и обратиться к нам с такими примерно словами: «Я ставлю точку, чтобы не впасть в банальность». Что ж, хорошо! Но что мы, прелюбезная Людмила Георгиевна, получаем в итоге? Мы получаем чувство неудовлетворенности. Закрывая книгу, читатель думает: «Вот уж воистину много шуму из ничего»…
Людмила отвечала Засуличу в той же насмешливой манере, но с тем женским коварством, когда в ложке с медом скрыт еще и ядок:
– Прелюбезнейший Иосиф Моисеич, я всегда ценила изысканность вашей литературоведческой мысли… Я преклоняюсь пред нею. Но не кажется ли вам, что вы подходите к анатомии Набокова, та-скзыть, с ржавеньким скальпелем социалистического реализма?
Засулич насторожился и пошел в контратаку:
– Я охотно признаю за Набоковым полное право на трюки с классическими романными положениями, – но что он предлагает нам взамен? Подготовительную болтовню… А когда мы уже как следует подготовлены, ничего не происходит, – великолепные миниатюры, очаровательные портреты, литературные опыты. Где же роман?
Гаевский с интересом ждал ответа Людмилы, похоже, что ждал его и сидевший напротив Тормасов – он даже перестал жевать кролика в брусничном кляре. Артем Павлович заметил его взгляд на Людмилу, – то был не профессорский, а блудливый мужской взгляд, взгляд самца с совершенно очевидными помыслами. Гаевскому даже показалось, что во взгляде том была уже какая-то своя тайная история, – но он тут же брезгливо изгнал из головы эту догадку, поскольку всегда считал, что ревность есть удел серых и неудачливых мужей. Да равно же и жен.
Еще заметил Гаевский, что во время беседы Засулича с Людмилой жена Тормасова, – Анна, худая и нервная женщина карликового типа, то закатывала глаза к потолку, то закрывала их и раздувала щеки, – всем видом показывая, что ей неприятен, даже противен этот специфический и заумный разговор.
А Людмила заводилась:
– Между прочим, Ходасевич писал, что при тщательном рассмотрении Набоков оказывается по преимуществу художником формы, писательского приема, и не только в том общеизвестном и общепризнанном смысле, что формальная сторона его писаний отличается исключительным разнообразием, сложностью, блеском и новизной. Все это потому и признано, и известно, что бросается в глаза всякому…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Виктор Баранец Офицерский крест [Служба и любовь полковника Генштаба] [litres] обложка книги](/books/393850/viktor-baranec-oficerskij-krest-sluzhba-i-lyubov-p-cover.webp)





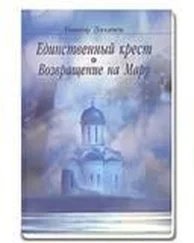
![Лара Темпл - Последняя любовь лорда Стентона [litres]](/books/385251/lara-templ-poslednyaya-lyubov-lorda-stentona-litres-thumb.webp)




