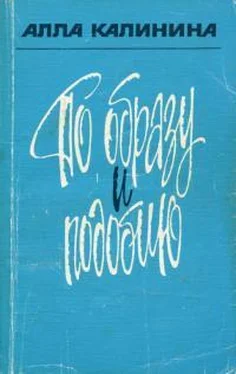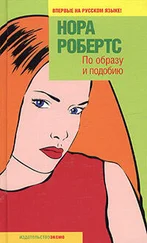Чудес действительно никаких не было. Основная часть свидания прошла по-деловому четко, Юра целый день мучился желанием поговорить о своем, Маша казалась ему вполне подходящим слушателем, по крайней мере она была не глупа и не шалела от счастья, проведя с ним пару часов в постели; в сущности, Маша была своим парнем, почему же не поговорить? Но что-то все останавливало его, он не решался, и не в Маше тут было дело, а в нем самом, он боялся сам себе показаться смешным, если бы вслух высказал все те удивительные чувства, что раздирали его душу. Ну что, какими словами он возьмется сейчас рассказывать? И все-таки он начал, неожиданно для себя, вдруг, просто не удержался. К его удивлению, слова хлынули из него свободно и неудержимо, он не просто рассказывал, он живописал.
— Слушай, да ты просто рефлексирующий тип! — сердито сказала Маша. — Вот бы никогда не подумала. Как ты не понимаешь, вся эта история несовременна. И чувствительность твоя несовременна, и вся эта эгоистическая нездоровая тяга к собственной истории. Ну что ты во всем этом нашел? В конечном итоге все мы родственники, все от Адама и Евы. Ну и что ты хочешь? Ты никогда не сиживал на родственных обедах? Нет? А я вот сиживала, мои старички меня возили, в нежном возрасте, когда я еще брыкаться не могла. «Вот это, Машенька, твоя кузина Вика, а это, Машенька, твой кузен Оскар». Ужас! А блины при этом воняли подсолнечным маслом или рыбой несло на всю квартиру, и меня от этих запахов вечно рвало. И Оскар был прыщавый, и Вика была выдающаяся дура, а уж про тетей и дядей я не говорю. А семейный альбом, который надо было целый день смотреть и умиляться! Да нет, Юра, я понимаю, может быть, уж и не так все они были плохи, но не желаю я их любить только потому, что они мои родственники. Разве это не дикость?
— Почему дикость? В конце концов из родственных чувств к другим людям проистекают все демократические устремления человечества. Да ты же журналист, Машка! Неужели ты так не любишь людей? Да любознательность элементарная должна быть в человеке!
— Какая любознательность? И что значит любить людей? Это, знаешь ли, чистая демагогия. Одних я люблю, других ненавижу, а к абсолютному большинству человечества, извини, совершенно равнодушна. Да как я их могу любить, если я их в глаза никогда не видела? И не хочу видеть. Любить абстрактно вообще нельзя, и не за что. Да и что за любовь такая? В социальной жизни вообще не любовь нужна, а совершенно другие понятия, более объективные и реальные. Например, справедливость, законность. И вот этими понятиями я в своей работе и руководствуюсь, и все получается отлично, не волнуйся за меня. Двадцатый век кончается, а ты все про что-то ветхозаветное толкуешь, не хватит ли? И так всего слишком много на наши несчастные головы. Проще надо жить, Юрочка, а то взорвешься. Без эмоций, без стрессов, по-деловому, иначе человечеству вообще не выжить…
— Проще? Ну и ну! И как это ты до этого додумалась, крошка?
Глупо было разговаривать с ней серьезно, тем более сейчас. Юра неопределенно засмеялся, отмахнулся от нее, он рассказывал не ей, себе. Не хочет, пускай не слушает. Ему его история самому интересна и важна, и не желал он видеть мир упрощенным, его больше устраивали сложности и неясности. О Маше он тут же почти забыл, не только Маша его не понимала, он сам себя не понимал. Что за очарование, что за сладость была в его мечтах-воспоминаниях, почему они так безраздельно захватили его, что в них такого особенного? Почему он накинулся на них, как голодающий на теплый кусок хлеба? Наверное, у этого была своя причина, он и был голодающий, но все это слишком мучительно, слишком лично для такого вот досужего разговора. Он запнулся и замолчал.
— Ну а при чем же здесь эта девица? — ехидно спросила Маша.
— Какая девица? Ксения, что ли? Да абсолютно ни при чем. Я же тебе объяснял. Девица просто нахалка, у нее какие-то свои делишки в Москве, а денег нет, вот она в меня и вцепилась.
— Ну а ты?
— А что я? Не выгонять же ее на улицу. Пусть живет до маминого возвращения, мне не жалко.
— А Соня? — безжалостно ввинчивалась Маша.
— Что же Соня, Соня от меня не убежит, и вообще это не твоего ума дело, поняла? — И он небрежно чмокнул Машу и даже, кажется, потрепал по щеке.
Маша так и взвилась от ярости.
— А ну-ка сними очки, — грозно сказала она.
— Зачем?
— Сними, сними. Хочу рассмотреть получше твои бесстыжие глаза.
Глаза у Юрочки оказались маленькие, ярко-синие, в длинных и густых ресницах, почти девичьи глаза, но Маша для своей дочки не хотела такие. У ее дочки будут ясные, широко расставленные золотистые глаза, как у нее самой. Маша успокоилась и сказала небрежно:
Читать дальше