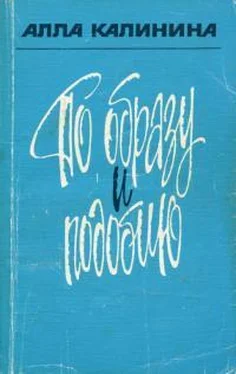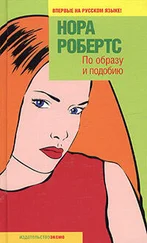— Что-то ты очень уж боишься развода. Думаешь, если нагрянет, так этим удержишь? Не те времена…
— Что с тобой, Гоша? — тихо сказала Лилька. — Не надо, зачем ты так? И вовсе мы не от соблазнов страхуемся. Просто хотим, чтобы с самого начала все было… Ты помнишь, как мы с тобой познакомились? Ну, тот пикник, цветочную поляну под луной, ночь? И как ты нас вез на лодке по черной воде. Помнишь? И я всю свою жизнь буду помнить. Вот так и это, сродни тому. Не хочу ресторанов, глупых тостов, пустого хихиканья. Хочу по-другому — чисто, светло, торжественно!
— Светло! Эх ты! А клятва Гиппократа, а вся твоя нормальная прошлая жизнь?! — «А я? — хотелось мне крикнуть. — А наша милая старая дружба?» И Лилька вдруг словно услышала эти невысказанные мои стенания, подняла голову, прямо посмотрела мне в глаза своими подведенными, странно изменившимися серыми глазами и ответила не на слова, на мысли, которые всегда так хорошо умела во мне читать:
— А все остальное остается, как было, — и работа, и дружба, и принципы. Не те мы люди, чтобы нарушать клятвы или чему-нибудь в себе изменять.
Ах, если бы она не испортила все этим «мы»!
— Ты знаешь, это как проза и поэзия, — вдруг сказал Борис. — Что из них точнее отражает мир? Ты слишком рационально на все смотришь. А ты попробуй оторвись.
— Это чтобы ступить на мост веры, как вчера предлагал твой отец?
— Нет, не для этого, просто чтобы справиться со стереотипом. А отец… ничего он тебе не предлагал, просто ты спрашивал, он отвечал. Кстати, гораздо доброжелательнее, чем ты спрашивал.
Мы медленно брели по обочине дороги. А когда обернулись наконец, вот тут я и увидел церковь во всей ее удивительной полной красоте. Она стояла открытая на все четыре стороны, простая, белая, строгая, в просторной белой ограде, в темном курчавом воротнике парка, и не такая уж и огромная она оказалась на бескрайней шири полей. У ворот церкви стояли машины, довольно много машин.
— Это всё ваши гости подъезжают?
— Вряд ли, скорее, детишек везут крестить, их обычно порядком собирается.
— Крестить? В наше время?
— Деревня, темнота, — в тон мне ответил Борис.
— А ты как это оцениваешь, как-нибудь иначе?
— Немного иначе. У них живее обычаи, не все еще разрушено, помнят старые песни, праздники, сарафаны бабкины по сундукам сохранились, для них некрещеный — просто не русский, они и помыслить не могут иначе. Обычай, только и всего.
— А может быть, бога хотят иметь в кармане на всякий случай, про запас? Вдруг да и понадобится.
— Да что же это ты так обо всех думаешь, подозрительно, недоверчиво? Что же плохого тебе твой народ сделал, что ты его, как старорежимный чиновник-бюрократ, все обязательно подловить хочешь да высечь?
— Не понимаю я тебя, Борька, не понимаю. Ведь это все дичь!
— Все это жизнь народная, которая тянется веками, из века в век передает себя. Нерациональная? Ну и что же? Мало ли чего на свете нерационального — поэзия.
— Да ведь двадцать первый век на носу!
— Ну и что? Да если бы я мог верить в бога, я бы молил его, молил, чтобы все это осталось и после, и в двадцать втором, и в тысячном, чтобы люди сохранили свой язык, и образ, и обычаи, чтобы не стали похожи на живых киберов, чтобы не затараторили на каком-нибудь там машинном эсперанто, очень удобном, конечно, но чуждом нашей человеческой натуре, понимаешь? Данность! Данность не только неизбежна, она основа прекрасного. Научись хоть что-нибудь принимать из прошлого, не разрушай все до основания. Ведь культуру же мы принимаем, ложки-матрешки поняли, зауважали, мусульманам сочувствуем, а вековечные основы русского православия с его высокой и светлой моралью, со скромностью его и чистотой — под корень? Да зачем же под корень-то? Мы же не та темнота, что прежде были, сумеем разобраться, что к чему, по самым современным философским понятиям. И поспорить чрезвычайно интересно и полезно было бы, физикам, философам, богословам, уверяю тебя, только ко всеобщей бы пользе пошло. Но не о боге ведь речь, я о православии говорю как о бытовой исторической основе русской жизни. Почему в рабочих посвящают, в студентов посвящают, а в русских людей — нет? Не странно ли, не дико ли?
— Так регистрируют же младенцев в загсе, чего тебе еще? Или ты о чисто национальном вопросе говоришь?
— Религия никогда не была у нас чисто национальным явлением, креститься ведь мог любой, если хотел жить единой жизнью с православным народом, в ней скорее патриотическое начало было, чем национальное, она объединяла. А теперь, когда все это потеряно, лучше ли стало?
Читать дальше