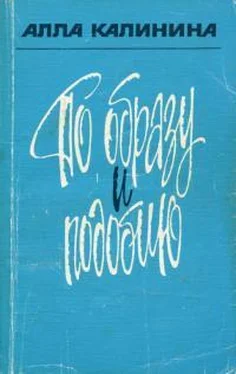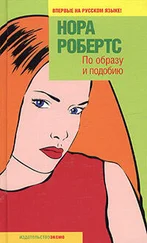Когда мы возвращались, из ворот выходили люди, много людей с детьми на руках. Дети были большие и маленькие, нарядно одетые, и родители, и бабушки-дедушки тоже, мелькали яркие рубашки, пестрые платья, шелковые платочки. Рассаживались по машинам, некоторые завтракали на траве, прямо под белеными стенами ограды. Вот они все прекрасно понимали друг друга, они были вместе, а я? Неужели я был изгоем в своем народе?
В церковном парке тянуло дымком, где-то там, в глубине, затевались шашлыки. Жизнь шла, как везде. Что же мне мешало, что было не так? Иван Степанович? Образованный, милый человек, прекрасный семьянин, внимательный отец. А уж про Антонину Семеновну и говорить нечего — труженица, мать шестерых детей. Работа его? Да мало ли какие встречаются работы. Циркачи, которые всю жизнь крутят ногами какой-нибудь барабан, или огонь глотают, или подбрасывают вверх палочки и ловят. И ничего. Кто-то всю жизнь изучает червей, лягушек разводят — на экспорт, да в конце концов просто толкают ядро — тоже профессия. Чем хуже Иван Степанович? Надевает красивую одежду и каждый день играет спектакль, старый, не им придуманный. Значит, все дело в идеологии? Идеологический враг? Но в том, что он говорит, нет ничего ни опасного, ни вредного, разве что тьму сеет? Но ничего ведь он не сеет, люди-то к нему приходят нынешние, подготовленные, все на свете знающие, даже не приходят, на машинах приезжают, на собственных, обыкновенные современные люди. Значит, непривычное, чуждое кроется в самой церковной традиции, в самой церкви? Но почему, если веками она объединяла народ? Ага, вот и я уже поддался пропаганде. Вот это, наверное, и есть главное? Неужели?
Обедали в саду, стоя. На длинном некрашеном столе расставлена была зелень, редиска, лук, всяческие квашения, а посередине стоял таз с клубникой, мелкой, нечищеной, последней. Шашлыки пахли упоительно. Ели прямо с шампуров, щедрыми порциями, жирный сок капал на вытоптанную землю. Здесь были и братья Бориса с женами, дети бегали, все больше мальчики самых разных возрастов, еще какие-то гости бродили, мне неизвестные. Братья Бориса были разные, ни на него, ни друг на друга почти не похожие. Оба они были моложе Бориса, держались также сдержанно, скромно, при старших вперед не лезли, да и вообще, видно, все были молчуны. Как они ощущали, переживали свое происхождение — мне было не понять. И ведь не спросишь же. Да, в сущности, и какое мне дело? В этой части у каждого свои проблемы, свои радости и страдания, я о Лильке думал, вот о ком, как все это принимает Лилька? Но смотрел на нее и ничего не видел. Как же людям, оказывается, кружит голову этот мираж любви! Лицо у нее было пустое, оживленное, бессмысленно-радостное. Упустил я Лильку, упустил, погубил. Что будет теперь с нею? Конечно, я знал, знал, что Борис умный, серьезный, честный человек, стыдно мне было так о нем думать, но, хотел он того или не хотел, он навесил Лильке на шею весь тяжкий груз своих семейных проблем, все то, что отгораживало их от привычной нам, нормальной современной жизни. Ах, не умел я все это сформулировать, потому что не мог додумать до конца, что-то путалось, не сходилось у меня в голове.
После обеда все разбрелись кто куда, я был рад этому, хотелось побыть одному, отдохнуть от мучивших меня мыслей, прийти в себя. Я выбрался за ограду и пошел по дороге, в деревню. И едва только церковь оказалась за моей спиной, все чудесным образом переменилось. Был разъезженный привычный российский проселок, была деревня как деревня, крашеные срубы в три окошка с сараями и террасками, с палисадниками, в которых цвели розы, гладиолусы и ноготки, и картошка цвела в огородах, и пышные грядки лука и укропа видны были издали, куры рылись в пыли, бегали дети. Я шел и шел. И так мне делалось спокойно, хорошо и чисто на душе, как давно уже не было. Вдруг набитая тропка свернула с улицы куда-то в сторону. Я пошел по ней и снова очутился возле речки. Здесь берега заросли ивняком и ольхой. Внизу был маленький пляжик, заводь, ребятишки плескались, в стороне были мостки, — видно, с них и удили, и прыгали, и полоскали белье. Я тоже разделся и осторожно ступил в воду. Вода была ключевая, ледяная. Я набрал в грудь побольше воздуха, разом нырнул, почувствовал, как всего меня обожгло, и открыл глаза. Темная вода была прозрачна, как стекло, я увидел перед самым носом чистый пузырящийся речной песок, свои огромные, как под лупой, белые руки с седыми волосками, ставшими дыбом, и выскочил на поверхность. Заводь была крошечная, дальше речка еще сужалась. Я вылез и сел на мостки, вытереться было нечем, предстояло сохнуть. После ледяной воды воздух казался особенно теплым. К вечеру ветер упал, небо прояснилось, верхушки ив золотило солнышко, ветви же их и вовсе казались красными. Я сидел на мостках и ни о чем, ни о чем не думал. Из кустов вышла бурая корова, долго смотрела на меня томными бессмысленными глазами, потом нехотя вошла в воду, наклонилась и стала пить. Круги побежали по темной быстрой воде, вздрагивали розовые внутри коровьи ноздри, вздрагивала шкура на спине, сгоняя надоедливых слепней. Потом корова подняла голову, частые капли потекли с ее губ, и снова припала к воде. Я отжал в кустах плавки, оделся и повернул назад. Я снова чувствовал себя бодрым и ясным, готовым ко всему, и в первую очередь конечно же к победе и милосердию.
Читать дальше