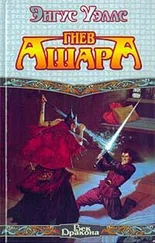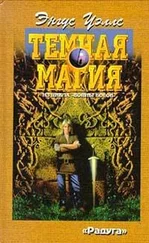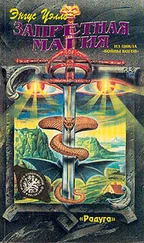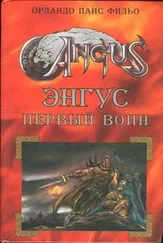— Папа много лет помогал дяде Виктору, — холодно заметил Морис. Он взял померанцевую лопаточку и принялся чистить ногти.
— Конечно, — кричала миссис Либиг, — ногти у тебя чище, чем у дяди! Верно, отец помогал Виктору. И я помогала. А как иначе? Мы одна семья. Роза тоже посылает ему из Нью-Йорка. Вот так свои поступают, мой дорогой. У меня еле язык повернулся сказать Розе, что твой отец не видится с Виктором. Она говорит, как же это можно, ведь они братья. А теперь и тебе нельзя видеть Виктора. «Мы, — говорит твоя мать, — не хотим, чтобы Морис знался с Виктором». Все не по ней. Теперь, видишь ли, Либиги плохи, потому что не набрались культуры. «Норман равнодушен к музыке. Я хочу, чтобы Мориса что-нибудь интересовало помимо денег». Прекрасно. Так вот дядя Виктор — он кое-чем интересуется, помимо денег, и он — Либиг. Он способный художник. Его мультипликации приносили хорошие деньги, а потом киношники отвернулись от него — и он остался без денег. Твоя мать, конечно, любит художников, только ей не нравится, когда у них нет работы.
Морис встал и взял со стола книгу.
— Я перестану тебя слушать, если ты будешь в таком тоне говорить о маме.
— Что значит перестану слушать? — взвилась миссис Либиг. — Подрасти сначала! Что мне нужно, то и будешь слушать. Кембридж, адвокатура — сыну Гертруды Либиг, видишь ли, не к лицу заниматься тряпками. А придумать платье и продать его — тут, знаешь, нужно побольше искусства, чем молоть языком в суде. Ты хоть иногда слушай, что тебе говорят умные люди, а не всякие там дикие утки. С родным дядей, видите ли, нельзя знаться! Пора бы тебе своей головой думать.
Она задыхалась от возмущения, сквозь густой слой косметики выступили бисеринки пота. Она положила руку на грудь.
— Ну не дура ли — так расстроиться из-за глупого мальчишки? И вообще не твое это дело, — выкрикнула она, — разбирать дядю! Мал еще, тебе только семнадцать исполнилось. — Она подобрала свое полноватое тельце, вытянувшись во весь свой маленький рост. — Я пошла принять ванну, — объявила она и удалилась, привычно покачиваясь на очень высоких каблуках.
Морис свободно раскинулся на полосатой кушетке в стиле эпохи Регентства и постарался успокоиться. Потому что все они — и мать, и отец, и бабка — приучили его любить их и без зазрения совести тянули каждый на свою сторону. «Прекрасно», если воспользоваться бабкиным словом, эмоционально они им завладели, но умом он оставался им чужд, даже презирал их — нет, не презирал, потому что это предполагает некую взаимосвязь. Он следил за тем, чтобы слова точно выражали его мысли — «эмоционально», «взаимосвязь», — ибо слово формирует мышление. Он еще мог простить, что они вымещали на нем свое одиночество, уязвленное честолюбие и разгулявшиеся нервы; и не мог простить, точнее — не мог принять, поскольку простить значило, что ему от них что-то нужно, а он ничего от них не хотел, — он не мог принять мысли, что причастен к их пустой, пресной жизни. Он не делал исключения даже для матери, с ее духовными запросами; человеку принципиальному легче договориться даже с его пошловатой нахрапистой бабкой.
Он осторожно подтянул стрелки на брюках шоколадного цвета, закинул ногу за ногу и углубился в речи Берка. Он упивался умной страстностью и волнующей грацией слов, смиряя нетерпение, это безумное желание убыстрить годы и скорее зажить настоящей жизнью, с чувством высокой ответственности и по-взрослому рассчитывая свои силы. Придет же конец посредственности, переведутся торгаши и ремесленники, все эти Либиги, — он и его поколение об этом позаботятся. Но чего-то хотелось уже сейчас, чего-нибудь настоящего — в жизни, а не на сцене.
Выйдя из ванной комнаты, миссис Либиг сунула голову в дверь гостиной. За отворотами ее шитого золотом халата обвисала вялая грудь; лицо под кремом казалось мертвой маской без выражения; голубые волосы лезли сквозь серебряную сетку. «Как читается, Морис? — улыбнулась она. Долго раздражаться она не умела. — Надо будет вызвать мастера — телевизор совсем никуда работает. Такие деньги выбросить! Приготовь мне стаканчик на сон грядущий, — распорядилась она. — Я буду через минуту. — И уточнила — С айсбергом». Это выражение она переняла в Нью-Йорке, когда гостила у своей дочери Розы, и дома любила им щегольнуть.
Вернувшись, она взяла свой стакан неразведенного виски и приготовилась к заветному получасовому разговору перед сном. У нее было убеждение, что дневные дела не оставляют ей времени как следует выговориться, хотя не закрывала рта даже в пору своей самой активной деятельности, под именем «мадам Клары» заправляя дамским магазином.
Читать дальше