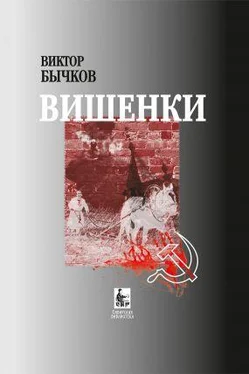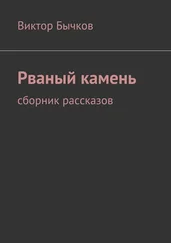Марфа прекрасно понимает, осознаёт: главное, самое высшее предназначение женщины – родить ребёнка, родить человека. Этому учила её мама, к этому готовит женщину природа, так устроено её тело, ум, сознание. Знает и понимает это и Глаша. Однако Бог не дал ей такой возможности испытать чувства материнства, когда после боли физической приходит ни с чем не сравнимое чувство радости от рождения ребёнка, человека, твоей крови и плоти. Тогда ты перестаёшь существовать для себя, а все твои мысли, помыслы, поступки направлены на заботу о своей кровинушке.
А Глаша, сестра её кровная, не испытала такой благодати. Марфа не может себе позволить не помочь сестре. Кто, как сможет ей помочь, кроме её, Марфы? Разве чужие люди смогут это сделать? Посочувствовать – да! Может быть, и понять – да, поймут! Чужие люди смогут это сделать, войти в положение, но не более того. Но уж помочь? Именно помочь, а не посудачить, перемолоть косточки. Да-а, на чужой роток не накинешь платок, это понятно. А вот именно поможет, спасёт сестрицу она, сестра Глаши, и больше никто на этой земле. Пусть её, Марфу, кто-то потом и осудит, выставит, возможно, в некрасивом свете, она стерпит, всё стерпит и вынесет. Ибо это не будет идти ни в какое сравнение с теми страданиями, что переносит, с чем живёт её Глашенька, сестричка её единоутробная.
Марфа всё видит и понимает. Видит, как загораются глаза Глашкины, когда подходит она к люльке с младенцем, какая боль потом исказит её красивое лицо. Как озарится оно, когда женщина забывается, заигрывается с чужим ребенком и вдруг зайдётся в неуемном плаче, тайком от людских глаз. Вот поэтому старшая сестра предпочитала оставлять детишек на попечение старенькой бабки Юзефы да деда Прокопа, чем родной младшей сестры. Потому как понимала, какую боль причиняют Глашке чужие дети.
Понимает Марфа, что сестре не только горько и обидно за себя, как нерожалую женщину, но и стыдно перед мужем своим. За что он страдать должен? Это он с виду вроде как спокоен, не даёт повода жене усомниться в своей преданности, старается не травмировать её. Так это только с виду. А что у него на душе? Кто был там, кто видел? Марфа хорошо помнит Ефима молодым и может сравнить его теперешнего с тем Фимкой, что был перед венчанием, перед женитьбой. Понятно, что после схватки с медведем не о лице речь идёт, нет. Хотя мужчина отпустил бороду, усы, и, не зная, вряд ли поверишь, что под седыми волосами скрывается изуродованное, в шрамах лицо.
Так грех это или что-то другое, но уже не греховное, не постыдное, а благое, благостное? Кто рассудит, кто сможет это растолковать женщине?
В тот день, когда Данила залетел во двор как заполошный, весь в крови, с окровавленным топором за поясом, Марфа чуть с ума не сошла. Спасибо, муж правильно сделал, заматерился на неё по-страшному, вот она и в себя пришла, опомнилась тогда благодаря матеркам этим.
А Глаша как почуяла сердцем, кинулась следом за Данилой, хотя имя Ефима никто и не упоминал. Значит, почувствовала. Но Марфа уцепилась в руку, не пустила. Да и детишки набежали, прижались к мамке с тётей, заголосили в один голос, удержали её.
Так и сидели дома, в неведении, ждали. Спасибо, лесничий молодой Кулешов Корней Гаврилович подошёл, всё обсказал, что и как, успокоил, мол, подрал медведь, но живой мужик, слава Богу.
Всё равно Глаша тут же собралась, кинулась в Слободу в больницу. Марфа только успела узелок сложить, сунула сестре в руки.
Правда, к вечеру с Данилой приехала обратно. Рада, жив мужик, а это главное. А какое у него лицо? Да разве в этом дело?
Как рассказал потом Корней Гаврилович, когда разделал тушу медвежью, мясо им привёз, что Ефим молодец. А то! Как-будто они не знают!
Мол, говорит лесничий, Фимка не растерялся, ножом зверя резал почём зря снизу, когда под ним лежал. А когда кровью истёк, и рука нож не держала, так он зубами грыз медведя. Во! Весь рот был забит шкурой с шерстью, а сопротивлялся. Вишь, какие у нас мужики! И Данила не оплошал, вовремя подскочил, подоспел как раз ко времени, Корней говорит, топором зверя прикончил. И коня быстренько пригнал, в больницу отвёз друга. Потом санитар Ванька-Каин жаловался Акиму Козлову при случае, что с топором кинулся на доктора Дрогунова Павла Петровича. Мол, долго чешетесь, Фимку его не спасаете. Спасибо, врач хоть и молодой, но обходительный, успокоил взбесившегося Данилу, поговорил, рассудил по-хорошему, тот и обмяк. А скажи слово в тот момент против, и ещё неведомо, чем могла дело кончиться. Данила, он такой, за друга в огонь и в воду.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу