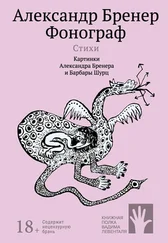Книжка была глупой.
Но было там и кое-что другое: пролетарское, плебейское, народное неподчинение. Неприятие никакой навязанной судьбы. Упорство, непреклонность сопротивления.
— Конец, что ли? — спрашивал он себя, дёргая локтем.
— Зачем конец? — отвечал он себе, прицеливаясь по неприятелю.
И щёлкал невразумительный выстрел — очередной враг падал лицом в землю.
Этот автор стрелял и стрелял по бесчисленным вражеским легионам — палил из своего самострела.
«Вот как скоро всё кончилось», — говорил он себе. И перед ним пробегала его жизнь — трудная, полунищая, судорожная, подслеповатая жизнь, в которой было полным-полно ошибок и мало озарений, и которая кончалась теперь в разогретой, как сковородка, квартирной дыре на холмах Хайфы. Жизнь?
Были в ней горячие оладьи с малиновым вареньем, которые он так любил в детстве, и учительница Марья Порфирьевна с висящими щеками и значком ударницы труда, приколотым к чёрному платью, и была чёрная пизда его первой любви Ольги или Екатерины — напугавшая его до жути пизда… И много, много чего ещё было, с чем сводила и куда кидала его судьба — но он ничего из этого не признал, ничему не подчинился, хотя и беспрестанно терпел унижение.
Масштабы сместились, и пизда уже не пугала, а радовала, но платье учительницы со значком до сих пор вселяло ужас, потому что напоминало гроб отца с чёрной материей, а также торжественный бархатный занавес в кремлёвском Дворце Съездов, и ещё шторки в самолёте, доставившем его в Бен-Гурион. Он ненавидел занавесы и шторы! Он хотел заглянуть за все эти завесы, но там неизменно оказывалась пустота, пустота…
Жизнь?
Вся жизнь его была попыткой отдёрнуть занавес — и увидеть настоящую, счастливую жизнь. Вся жизнь его была попыткой к бегству, измерялась этими попытками. Побегов у него было много — и все неудачные. Побеги не были продуманными, хитроумными, как у графа Монте-Кристо или князя Кропоткина. Нет, скорее мальчишеские, дурацкие бегства — с уроков, из пионерского лагеря, из фабричных застенков, из бездарной страны… Бегства эти привели его не туда, куда он надеялся…
А куда?
Да кому какое дело?!
Не нужно преуменьшать значение попыток к бегству. Они, а вовсе не их успех, и есть самое главное: кратковременные, смехотворные, ребяческие побеги из замёрзших, ледяных краёв равнодушия, одиночества, забытья, рутины, стадного существования, иллюзий. Побеги из холодной Лапуты — в весну, в надежду, на остров Пасхи… Неволя ведь становится особенно невыносимой весной. Хочется любви, света, объятий. И ты бежишь, в душе бежишь, а потом и телесно…
Власть надежды, главной Иллюзии, за которую расплачиваются тяжкими ночами холодного пота, горячего пота, бессилием, слабоумием, беккетовским маразмом, новым сроком в тюрьме, новым холодом, а иногда и смертью — власть надежды толкает тебя к безостановочным попыткам к бегству…
И вот его жизнь — жизнь беглого, тёмного человека — съёжилась до лоскута пыльной шагреневой кожи. Эту-то кожу я и держал теперь в руках, сидя на иерусалимской скамейке, и читал вытатуированные на этой коже слова и фразы. Жизнь!
Честно говоря, фразы эти меня восхищали. Не хуже Селина! Даже лучше! Эти фразы нравились мне не меньше «Домика в Коломне», не меньше «Шума и ярости», не меньше Беккета, не меньше «Игрока» Достоевского, не меньше платоновского «Котлована»…
Не сходя со скамейки, я решил, что хочу быть таким же — плебейским, ошибочным — автором. То есть не автором вовсе.
Помню ещё вот что.
Этот рассказ о тёмной, глухой жизни иногда прерывался какими-то сказками, притчами. Странные это были вставки. Они разрывали ткань повествования как некие вздохи-вдохи, как глотки воздуха, которые были необходимы автору, чтобы отвлечься от собственной жизни.
Вот, например, он поведал, как появились в мире ящерицы. Сначала, согласно его космогонии, ящериц на земле не было, а были только белки, которые вечно спаривались. Они спаривались и спаривались, так что великому богу-медведю это надоело, и он решил ударить по неприличным белкам лапой. И тогда, в самый последний момент, одна из белок, чтобы не погибнуть от тяжкой медвежьей длани, выпрыгнула из своей шкурки! Выпрыгнула — и улизнула, превратившись в шуструю ящерицу. А вторая белка тоже убежала — и с этих пор у неё такой пушистый хвост. Ведь это — меховая шкурка первой белки.
Эта история имела счастливый конец: с удачным бегством сразу двух тварей — белки и белки-ящерицы. Можно понять и так, что из любовного союза двух белок родилась новая легконогая тварь — ящерка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу