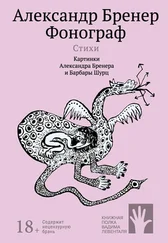И вот наступил роковой вечер.
Мы с женой устроили экспромт-вечеринку в редакции — только для своих. Присутствовали: я, она, Роман Баембаев, Гриша Блюгер, художник Юхвец и ещё кто-то, не помню.
Было довольно оживлённо. Мы выпили, закусили… И вдруг — дверь открывается!
У Гробманов был, конечно, свой ключ. Вот они и вошли. А с ними ещё какая-то пара — друзья из Иерусалима, русские.
Мы их, разумеется, пригласили за стол. Они сели. Но атмосфера мгновенно изменилась, испортилась.
Михаил Яковлевич осматривал гостей иронически. Щурился, кривился в отвращении, водил глазами. И выпивая стопку за стопкой, не закусывал. Он был возмущён и не скрывал этого.
Ирина Врубель-Голубкина на меня вовсе не глядела, только к Грише Блюгеру обращалась шёпотом. Она источала невидимый яд из всех своих пор, закипала, как самовар.
А все вокруг присмирели, одеревенели, сами собой приструнились. Вот как действует присутствие фараона и супруги его, вот что значит — власть, известная личность, авторитет, демиург, пахан.
Но явились пельмени горячие, хрен, горчица, и языки развязались слегка, лица набрякли. Центр застолья, конечно, сместился к патриарху авангардизма и сионизма, к рассказам его. Что-то вещал Михаил Яковлевич, что-то ворковала Врубель-Голубкина, а пирующие внимали им с благоговением.
О, как ненавистны мне эти фальшивые общие трапезы, эти улыбки наклеенные, эти шутки, в уксусе отмоченные, эти жесты, немощью продиктованные, эти собрания, мысль оскорбляющие, эти посиделки с водочкой да с тараканчиками в мозгу, эти тортики сахарные, мышьяком пошлости пропитанные, эти холодцы с человечьими хрящиками, эти речи с утробными господами и загробными дамами… Никогда мне, плебею безманерному, уж так не сидеть!
Прошла ещё пара дубовых минут.
И вдруг Гробман ко мне обращается:
— Кого же ты сюда пригласил? К нам? В редакцию?
И сразу смолкло всё.
— Что вы имеете в виду? — говорю.
— А вот кто это тут сидит? — указал он на Баембаева.
Я давно уже знал, что Гробман не переваривает Романа. Кажется, он считал его увальнем, подушкой сырой, дурачком каким-то, бездельником беспонтовым.
— Почему, — прошипел Гробман, — ты Гольдштейна сюда не пригласил, а вот этого пригласил?
И самодовольно, со страшным презрением, уставил он свой перст на моего товарища.
Что ж — я уже пьян был.
Хотя и не очень.
Вот я и взбесился, как полагается.
Вот я и схватил гробмановский палец и сжал его в своём кулаке.
А он смотрит на меня: мол, да как ты посмел?
И что-то во мне лопнуло. Какой-то мыльный, какой-то рыбий пузырь повиновения… Неуправляемость профанная пробудилась. И я потянул Гробмана за этот его палец прямо на стол с тарелками и бутылками — и бутылки попадали, покатились…
Тут мы оба вскочили, встали — друг против друга.
Я уже неоднократно тогда слышал, что Гробман — боец, забияка, драчун. Он это сам с гордостью рассказывал. Я же бойцом себя не считал, умелым драчуном не был, но захотелось мне очень с ним сразиться.
Вот мы и схватились, закачались, стали бороться.
Он был крепок, да не чересчур, а я моложе был. Вот и кинул я его об пол, подмял под себя. И слышу: он хрипит от ярости, пыжится, пукает.
Я встал, освободился от пут его. Огляделся.
Публика нашу рукопашную восприняла по-разному.
Гриша Блюгер, не терпящий насилия, вышел в другую комнату в явном отвращении.
Художник Юхвец, старый раб Гробмана, забился на стуле в угол и смотрел оттуда в радостном ужасе.
Роман был в восторге от драки.
Иерусалимские друзья Гробманов были потрясены варварством сцены.
Ирина Врубель-Голубкина, во время заварухи кричавшая мужу: «Миша, кончай его!», — смотрела озабоченно.
Жена моя меня подбадривала.
Гробман снова был на ногах — и сразу на меня бросился.
Драка возобновилась с невиданным ожесточением.
Я бросал его на пол ещё раза четыре. Он уже задыхался, обливался потом, в глазах читалось смертное беспокойство и тоска. Он больше цеплялся за меня, чем боролся. И всё-таки по-прежнему вставал и кидался. Это было тупо и смахивало на драку блатных.
Тут я заметил кровь. Это была кровь Гробмана, кажется, из носа. А ведь мы кулаками не дрались.
Кровь почему-то была и на стенах.
Мне стало тошно. А потом смешно. А потом — грустно. Я ощутил себя далеко, совсем далеко от всего этого — от непроходимой спеси и отчаянья Гробмана, от его воспалённого, поникшего тела, от его очумевшей жены, от самого себя в этой схватке, от всех присутствующих болельщиков — и от этой гнусной квартиры-редакции.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу