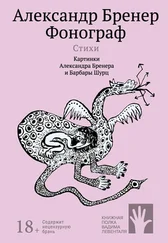Другая сказка была грустнее.
Жил цветок, который вечно тянулся к солнцу. Но увы — это была односторонняя любовь. Солнце отвергало домогательства цветка. И тогда цветок постепенно зачах, завял — и превратился в паука. Теперь вместо лепестков у него — лапы, и он не радостный, а злобный. И сидит он уже не в зелёной траве, а в бледной паутине, которая является последним негативным напоминанием о солнце.
Жизнь!
Я прочёл эту книжку с начала до конца, сидя под горячим солнцем на зелёной скамейке, в древнем городе Иерусалиме. Рядом, кстати, стояла и блестела на солнце большая бронзовая скульптура Жоана Миро. Книжка показалась мне в сто раз интереснее скульптуры.
Живая, настоящая книжка. А скульптура — хлам. Хотя ведь сначала, в молодости, Миро был великолепным художником. Но жизнь, дни, труды, усталость, карьера, слава, успех, пресыщенность и чёрт знает что ещё превратили его в халтурщика.
Безымянному автору шагреневой, волнообразной книжки такая судьба не грозила.
В Израиле у меня был товарищ — Роман Баембаев.
Отличительной чертой Романа был невероятно густой волосяной покров.
Волосы росли у него не только на голове, лице и лобке, но и по всему телу, даже на ладонях.
Волосы покрывали его спину, и шею, и горло, они торчали из ушей и кудрявились под глазами, они не только вылезали из носа, но и росли на нём.
Ему приходилось бриться три раза в день, чтобы выглядеть по-человечески.
Иначе его могли бы принять за неизвестного двуногого зверя, или одичавшего бедуина, или лохматого психопата. Иметь такие космы в Израиле было опасно.
Волосы были густые, рыжеватые, довольно мягкие на ощупь.
Мы решили использовать этот невероятный волосистый наряд — как аттракцион, как балаганный гэг.
Утром мы пришли на улицу Дизенгоф, в сердце Тель-Авива, и Роман скинул рубашку. А я стал сбривать безопасной бритвой волосы у него на спине.
Собралась большая толпа. Люди дивились на происходящее.
Космы на Романовой спине были такие густые и длинные, что бритва быстро сломалась.
Между лопатками осталась выбритая кривая полоса в форме цифры 7.
Через неделю эта полоска совершенно заросла, словно никакого бритья не было.
Волосы Романа росли с невообразимой быстротой. Чтобы не превратиться в большой волосяной шар, он подстригал их два раза в месяц садовыми ножницами.
Это помогало, но от стрижки волосы росли быстрей.
Он мог бы вообще не покупать одежду с такими волосами — они бы грели его зимой, а летом отталкивали жару, как узбекские ватные халаты.
В другой раз мы с Романом и моей женой Людмилой вышли на улицу Дизенгоф с большой бумажной коробкой. Перед популярным кафе мы влезли в эту коробку. В ней были три отверстия. В одно из отверстий Людмила выставила пупок, в другое я высунул нос, а в третье Роман продел член. Член был весь покрыт шерстью. Его можно было принять за палец неведомой косматой обезьяны.
Собравшаяся толпа пришла в бешенство и разорвала коробку. Нам пришлось спасаться бегством.
А однажды, чтобы повыпендриваться, мы с Романом решили позагорать в голом виде на старом тель-авивском кладбище. Мы назвали эту выходку — «Кладбище нудистов». Мы сняли трусы и легли на надгробные камни. Но загорал только я. Волосы Романа полностью предохраняли его от солнечных лучей.
Роман писал стихи, рисовал, сочинял музыку, пел, готовил вкусные блюда, танцевал. Его можно было бы назвать певцом, поэтом или поваром, но это, я думаю, не обязательно. Поэтов и поваров и так уже слишком много, а таких волосистых людей, как он, я лично больше не встречал.
Впрочем, он этими волосами нисколько не гордился.
Несколько лет назад Роман Баембаев умер.
Однако его волосы не перестали расти даже после смерти.
На его могиле в пригороде Тель-Авива нет надгробного камня, нет даже таблички с именем, зато прямо из-под земли пробивается большой куст мягких рыжеватых волос.
Куст выглядит чуточку странно, но если присмотреться и подумать, этот куст ничем не хуже ухоженного розового куста или дикого шиповника. Или, к примеру, жасмина.
Если, как учат философы, жизнь человека должна быть произведением искусства, то бегство является наивысшей формой искусства жизни. Это знал Вийон, знал Жарри, знал Хлебников, знал Артюр Краван. Раньше я считал, что бунт — наиважнейший жанр. Сейчас я без колебаний ставлю на первое место бегство. Практиковать его без паники, без страха и истерики, как тонкое воинское искусство, продумывать линии и направления бегства, как это делали арабские конники, вагабунды и тюремные беглецы во всём мире — самое благородное плебейское умение, которое мне известно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу