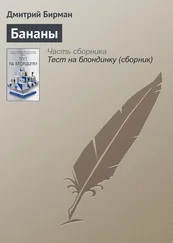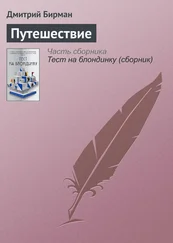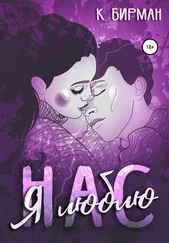С тех пор прошло уже некоторое время, и я думаю — кто больше виноват в нашей ссоре: я, который сбежал, или мой приятель, назвавшийся полиции и репортеру моим именем?
Доктор Зильберштейн решил остаться. Он обдумал свое решение.
Рано утром он вышел из дому с рюкзаком за спиной. Это был не огромный, возвышающийся над головой рюкзак, любовно прильнувший к спине туриста, обняв его за плечи. Рюкзак был небольшой и очень неудобный, потому что из него будто рвалась наружу кошка, которую несут топить. Только эта кошка не билась в мешке, потому что эта кошка была — книги. Зильберштейн нес топить книги.
Вот и холодная, серая гладь воды. Продрогшие, слишком легко, не по погоде одетые берега. Зильберштейн не был хирург и он понимал, что после второго броска заноет рука, поэтому первым он выбрал самый тяжелый том. Это была нежно-зеленая «Повесть о любви и тьме» Амоса Оза.
Самое гнусное, что он может сделать в такой ситуации, — это тянуть резину. Зильберштейн размахнулся, тяжелая повесть взлетела, трепыхнула страницами, освободился один край суперобложки, загнутым краем пытаясь уцепиться за ветер. Книга летит в воду не так, как кошка, без потери ориентации, она корячится и барахтается в воздухе.
Следующая. А.Б.Йегошуа. «Пять времен года». В реку!
Все тот же Оз. «Познать женщину». Ну, этого не жалко. В реку!
Гроссман. «Смотри статью „Любовь“». Тяжелая. Ее нужно было бросить второй. В реку!
Еще одна зеленоватая книга малоизвестного автора. В реку!
Меир Шалев. «Русский роман». Жалко… В реку!
На «Катерине» Аппельфельда у Зильберштейна дрогнула рука. Поколебавшись секунду, он оставил ее в рюкзаке.
Последними летели новеллы Агнона. Черный том с отливающими черным историями. В реку!
С тоненькой «Катериной» в рюкзаке Зильберштейн решительным шагом возвращался домой, на улицу Пионерскую, дом 60. Он начал планировать наступающий выходной день, пока только самое его начало. Он сбросит в прихожей на пол рюкзак, куртка привычно пересядет с его плеч на плечи вешалки во встроенном шкафу. Потом завтрак — пирожки с мясом и чашка растворимого кофе. А потом, может быть, он посмотрит «Ежика в тумане» Норштейна. Зильберштейн ускорил шаг.
Резкий, прохладный ветер решил, что это из-за его порывов пролег по щеке Зильберштейна влажный след. Он промокнул короткую соленую дорожку, затем оставил Зильберштейна в покое и уже над его головой сделал беспечный, невидимый глазу тройной аксель.
700.
— Мне уже семьсот лет, — будто бы сказал во сне Мафусаил отцу своему, Еноху, отчитывавшему его за ветреность. Слава Богу, не повторился в третий раз ночной кошмар, в котором Мафусаил сидел на горшке посреди кухни. Рулон туалетной бумаги во сне висел на двери в кладовку. Даже когда дверь закрыта, к бумаге с этого места нужно тянуться, а когда дверь, как сейчас, распахнута наружу настежь и пластмассовый пружинный захват на ней со щелчком охватил прикрученный к полу стержень, — есть только две возможности: попросить кого-нибудь подать ему бумагу или подъехать к ней вместе с горшком. Он не уверен, что на вторую из двух операций у него достанет сноровки, но и не решается обратиться к проходящим по кухне молоденьким женщинам. Хорошо, что они его родственницы и проявляют такт, не показывая, что отлично понимают неловкость ситуации, в которой он находится. На мучительной мысли, как бы ему выпроводить всех с кухни, он просыпался в предыдущие два раза.
Пробудившись сегодня, Мафусаил увидел томик «Лолиты», лежащий на прикроватной тумбе, и теперь окончательно решил: он обязан настоять на включении этой книги в Ветхий Завет! Она представляется Мафусаилу искусственно оторванной его частью.
Когда тебе стукнуло семьсот лет, ты считаешь не годы: после семисот ему исполнится восемьсот, но это будет не скоро. Когда семисотлетний Мафусаил вчитывается в желчные, пренебрежительные характеристики, которыми герой романа, не скупясь, одаряет мать Лолиты — Шарлотту, он улыбается: Гумберт-мальчишка! Реабилитация Шарлотты — таков будет главный вклад Мафусаила в толкование новой редакции Ветхого Завета.
Никто не знает, когда случилось последнее любовное приключение Мафусаила, что он вообще делает, когда зеленый автобус «Эгеда» увозит его в Тель-Авив.
— На прогулку, — говорит он. (Когда ему исполнилось пятьсот лет, Мафусаил решил не садиться больше за руль автомобиля, хотя новенькие водительские удостоверения с фотографией трехсотлетнего Мафусаила продолжали приходить ему по почте каждые двадцать пять лет).
Читать дальше