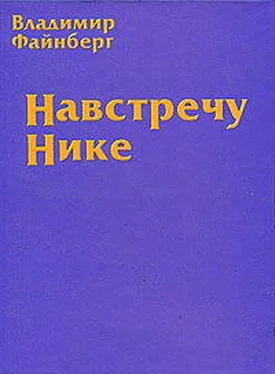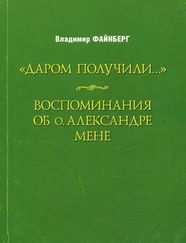Рано или поздно колёсико начинало крениться, валилось на бок, замирало…
Ты поела борщика с тефтелями, умылась и заснула. Я выдал Лене зарплату за месяц, мы выпили по стопарику водки, тоже похлебали борща. Она вымыла посуду. Ушла. А я, не в силах бороться с навалившейся дремотой, прилёг рядом с тобой. Ты спишь, как спят котята – утопив лицо в лапках. Наверное, уже забыла кошечку, из–за которой я тебя чуть не потерял в Турции, в «Грин–центре». Как давно всё это было – пять месяцев тому назад! Странно, более близким видится тот июньский день 1946 года, когда я писал письмо Сталину.
За одну–две недели до этого отчаянного поступка папа впервые повёл меня мыться в Сандуновские бани. Помню, я ужаснулся зрелищу голых мужиков, суетящихся в пару с шайками и вениками. И было стыдно своей наготы.
По выходе отец завёл меня в какую–то столовую, то ли на Петровке, то ли на Кузнецком. Впервые, как большому, взял мне и, конечно, себе тоже, по кружке пива, по тарелке вермишели с котлетой.
Пиво мне не понравилось. Котлета с вермишелью оказались прокисшими.
— Не говори маме, – сказал отец, вставая из–за покрытого липкой клеёнкой стола.
Только успели мы подняться, к нам кинулся какой–то измятый мужичок: «Уходите? Больше не будете?»
Он призывно взмахнул рукой куда–то в сторону раздевалки.
Оттуда, громко топоча, набежали двое детишек с бабушкой. Не забыть, как они дрожащими руками хватали остатки хлеба, торопливо доедали наши объедки.
Словно пелена спала с глаз.
Легко быть бесстрашным, когда не имеешь представления об опасности.
Твой папка писал Сталину о том, что нельзя позволять льстить себе чуть ли не в каждой газетной статье, по любому поводу славить, говорить о его «мудрых указаниях» насчёт повышения добычи угля или яйценоскости кур.
Уверенный, что вождь народов не знает об истинном положении дел, что от него скрывают правду, я писал о появлении новой, советской буржуазии, заражённой антисемитизмом, о безногих и безруких бывших солдатах и офицерах, просящих милостыню на улицах Москвы, о голодной семье, доедавшей объедки в столовой. И, наконец, извещал Иосифа Виссарионовича о том, что «решил создать партию молодёжи «Революция продолжается», сочинил Устав, который и высылаю вместе с письмом для советов и замечаний».
«Устав» я действительно сочинил. Текст его, помню, занял четверть школьной тетрадки. Оставалось назавтра всё это переписать аккуратным почерком и отправить с Центрального телеграфа по адресу «Москва. Кремль. Товарищу Сталину».
Таким образом твой папка собственноручно выкапывал себе могилу.
Я написал столько страниц, а ты ещё почти ничего не знаешь обо мне. Я изумлён, что до сих пор жив, что Бог так внимателен и добр, каждый раз вмешивается, спасает… Как долго я не умел этого видеть!
Вот и в тот раз Он прислал ко мне Корейшу. Того самого замкнутого, молчаливого соседа по парте, который вырезал на уроках шахматные фигурки из грушевого дерева. Того самого, который через месяц после первого и единственного визита, как позже выяснилось, утонул в подмосковном пруду.
Этот паренёк думал, что явился лишь за тем, чтобы перед отъездом с бабушкой в деревню взять у меня несколько обещанных папиных лезвий для безопасной бритвы, ибо у него начали появляться усики и щетинка на впалых щеках. Собственного отца, да и мамы у него вроде бы не было, хотя они где–то существовали.
Я выдал ему пять или шесть новеньких лезвий в запечатанных конвертиках, а ещё в придачу запасной папин бритвенный станочек, взятый без спроса. Угостил оставленной мне на обед жареной картошкой с куском рыбы. Я был так счастлив, что ко мне пришёл гость.
Вдруг взял и положил перед ним тетрадку с «Уставом» и черновик письма Сталину!
Корейша сказал, что и так задержался, должен идти. Что, если я так хочу, всё это он успеет прочесть дома, вечером. А завтра отдаст.
Уже в тот миг, когда он вышел на лестницу, и я захлопнул за ним дверь нашей коммунальной квартиры, я ощутил, что произошло нечто ужасное, непоправимое… Впрочем, ещё можно было крикнуть в пролёт лестницы: «Вернись! Отдай!»
Наутро меня позвала к телефону одна из соседок.
— Володя, – услышал я шепот Корейши, – говорю из телефона–автомата. Не задумывался, где находятся мои отец и мать? Никому не говори, что ты хотел сделать, понял? До осени!
Я не успел спросить его о местонахождении черновика письма и «Устава». Он положил трубку. С тех пор я больше никогда не видел этих своих рукописей. Как, впрочем, и утонувшего Корейшу.
Читать дальше