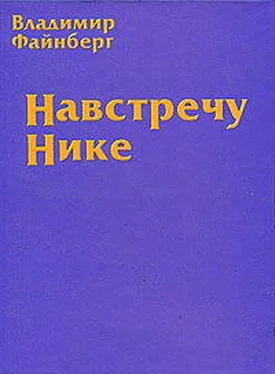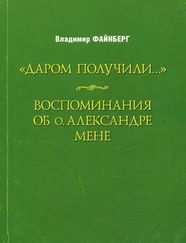Тот гнилозубый циник и пьяница был мне достаточно противен, но я, конечно же, не возвёл на него напраслины. И не стал подписывать бумажку о неразглашении нашей со следователем беседы.
Поутру родители встретили меня, измученные бессонной ночью. Боялись, что я арестован.
В ту пору вокруг меня роились люди, терзаемые ненавистью к власти, обрекшей народ нашей страны на затяжное несчастье. Одни считали, что искажены идеи Ленина, другие – что социализм губителен, нужно бороться против существующего строя, переходить, как все благополучные государства, к капитализму.
Я и сейчас считаю – никакого социализма в Советском Союзе и секунды не существовало. Был государственный капитализм, предоставивший связанным круговой порукой партийной дисциплины власть имущим возможность пользоваться нагло захваченными привилегиями, отнимать у трудового народа пресловутую прибавочную стоимость. Ничему подобному Маркс и Энгельс не учили. А чтобы никто не вякал, спаивали людей дешёвой водкой, откупались дешёвыми путевками в дома отдыха и прочими подачками партийных паханов.
Знакомые мне диссиденты, по крайней мере, так они сами себя называли, были неустроенными людьми, не нашедшими себя ни в чём. Без конца меняющими жён, от которых рождались неухоженные, болезненные дети. Своё нежелание следовать призванию, если оно было, оправдывали тем, что служить преступной власти аморально. Уходили в дворники, сторожа… Я тоже иногда пил с ними водку где–нибудь в котельной, слушал жаркие споры, получал отпечатанную на тонкой папиросной бумаге запрещённую литературу. При всём преклонении перед их бессребреничеством и мужеством меня угнетало одно: ими двигала ненависть. А я чувствовал, знал – на одной ненависти невозможно построить ничего путного.
Так оно потом и вышло.
…Не было мне места ни среди них, ни среди писателей. Издание книги всё отодвигалось. Снова вынуждала жизнь рецензировать, ездить в командировки. Снимать комнату для работы.
В октябре 1959 года я получил задание от радио, вещающего на заграницу, взять интервью у Бориса Леонидовича Пастернака, подвергшегося травле за опубликованный в Италии роман «Доктор Живаго». Не дождавшись, пока нас познакомит Чуковская, явился дождливым вечером к нему на дачу в Переделкино с дурацкой целью – оповестить Запад о том, что Пастернак жив и здоров, о чём сразу предупредил встретившего меня на пороге хозяина.
Эта памятная история тоже описана в книге «Здесь и теперь», и я не стану повторяться, замечу только, заворожённый и обласканный единственным великим поэтом, который существовал тогда на земле, я ушёл от него с твёрдым убеждением: то, что я не примкнул ни к какой сваре – правильно.
…Читатели говорят, будто моя проза похожа на протекающий перед глазами кинофильм.
Так вот, представь себе такой эпизод.
…Сухуми. Поздний вечер. За ставнями окна шумит ливень. Я лежу на раскладушке внутри норы, свёрнутой из одеяла и старого ковра. (Этот опыт пригодится мне через много дет, когда я проведу зиму в неотапливаемом каменном доме на греческом острове Скиатос.) Рядом, на кровати под периной покоится давний знакомый по Литературному институту, молодой поэт, к которому я утром приехал.
В Москве он не раз подолгу жил у меня, тоже спал на раскладушке между моей тахтой и родительским раскладным диваном.
А здесь между нашими ложами на железных ножках стоит «коза» – керамическая трубка, обмотанная раскалённой электрической спиралью. И початая бутылка трёхзвёздочного грузинского коньяка. По очереди, передавая из рук в руки потрёпанную книгу, мы читаем вслух роман Хемингуэя «Фиеста». По очереди прихлёбываем из бутылки.
Сейчас мода на Хемингуэя прошла. А я и поныне очень люблю произведения этого писателя. Когда был в Париже, с волнением прошёлся по улице Муфтар, где он жил и работал в молодости.
Герои «Фиесты» без конца потребляют спиртное. Вот и мы по–детски принялись им подражать.
На рассвете приятель повёл меня в сторону порта, в хашную. Там я должен был вкусить загадочный хаш – верное средство от похмелья.
Вымокший от ночного ливня город помаргивал тусклыми огоньками. С нахохлившихся эвкалиптов за шиворот падали капли. Старушка подметала мокрый тротуар метлой из пальмовых листьев.
Много лет уже с конца сентября всё во мне замирало перед наступлением зимы – опять не меньше пяти месяцев бояться поскользнуться, жить в затворе… А тут зимой я вольно шагал мимо запертых ещё мастерских, пакгаузов. С благодарностью поглядывал на приятеля, к которому я набился пожить до весны. Мы оба не ощущали никакого похмелья. Холодный рассвет бодрил.
Читать дальше