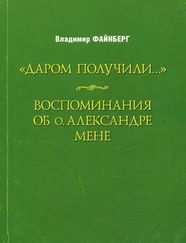Я шагал рядом с ним, как конвоир, и думал о том, что не так уж давно — несколько лет назад — мимо покосившихся плетней, мимо пыльных деревьев с пожелтевшей листвой ходили и проезжали эсэсовцы… Вот и по этой дороге они наверняка проезжали, мимо этих полей, на которых ничего не посеяно.
Еще раз оглядываюсь на церковь, но её уже больше не видно. Пустая раскалённая степь. Я один движусь по ней.
Сегодня первый раз в жизни переступил порог храма. Изнутри он показался выше, чем снаружи; сверху на каменный пол косо выстреливали солнечные лучи, по углам в бархатной темноте взблескивали оклады икон.
Древние сокровища покоились в сундуке, стоящем у стены. По тому, как отец Пантелеймон ковырялся с замком, я понял, что его давно не отпирали.
Наконец крышка откинулась. Запахло кислой пылью, старой кожей. Там навалом лежали книги, некоторые — в толстых кожаных переплётах.
Отец Пантелеймон принёс табуретку, и я сначала медленно, а потом все быстрей, нетерпеливее просмотрел всё, что лежало в сундуке. Это были напечатанные типографским способом Евангелия, Псалтыри, ещё какие‑то божественные сочинения на старославянском языке, и самое старое из них датировалось знакомым мне 1799 годом — годом, когда родился Пушкин, а я ведь искал древние рукописи.
На самом дне сундука лежал большой серебряный крест.
— Тут ещё есть, — раздался откуда‑то издалека голос отца Пантелеймона.
Я встал с табуретки и пошёл на голос.
— Сюда нельзя. Алтарь! — Отец Пантелеймон появился из‑за маленькой дверцы. В руках его была тощая стопка книг без переплётов. Это оказалось ещё одно Евангелие, «Толкователь снов, или Сонник», брошюра о разведении травы тимофеевки.
— А где же рукописные книги? — сказал я, возвращая странное добавление в руки священника.
— Было и рукописное, — ответил он.
— Где же оно?
— Немцы пожгли.
— Что ж, они рукописи пожгли, а книги не пожгли?
— Духовные не жгли.
Мы перешли к раскрытому сундуку и принялись укладывать книги. Но сначала отец Пантелеймон вынул крест, обтёр пыль рукавом рясы и поставил его на пол, прислонив к стене.
— А что, все‑таки есть Бог или нет? — спросил я, когда он запирал сундук. Терять было уже нечего.
— Был, — спокойно ответил священник.
— Распяли, что ли?
Отец Пантелеймон нагнулся, поднял крест и вдруг жутковато показал им к сияющему проёму раскрытых дверей.
— Умер. В одна тысяча девятьсот десятом году.
Выйдя из знобящего сумрака церкви на раскалённую паперть, я долго соображал: кого это он имеет в виду, Толстого, что ли?
Отец Пантелеймон появился во дворе уже без креста, и я пошёл за ним к воротам.
— Не слушали Льва, — сказал священник, не оборачиваясь. — Аэропланы изобретали, граммофоны, вот и проворонили…
— Что проворонили?
Он навесил замок.
— Лев умер, а после 14–й год начался, две такие войны проворонили… По–духовному надо было идти, а не по–вещественному. — Он обернулся ко мне, яростно прошептал: — У меня сын неведомо где погиб! Идемте яишню кушать.
Я почувствовал себя виноватым. Если бы Бог был, он бы ясно видел, что я не причастен к возникновению ни первой мировой, ни второй…
— Спасибо. Поеду.
— Куда?
— В Степановскую.
— Ни телеги, ни машины не достанете. Идемте яишню кушать. Переночуете, глядишь, завтра–послезавтра кто поедет.
— Что вы! Я в командировке. Может, попутная нагонит. Как здесь на дорогу выйти?
— Вольному воля… — Он взмахнул рукавом рясы. — Налево и сорок вёрст все прямо.
— До свидания.
Но он не протянул мне ладони. Может, у них, священников, не принято?
Сворачивая налево, за церковь, я оглянулся и увидел, как отец Пантелеймон стоит и смотрит мне вслед.
И вот я иду, передвигаюсь один посреди пекла, только тень, маленькая ещё, движется у моих ног.
«Если немцы духовное не жгли, то что же тогда представляли собой исчезнувшие рукописи?
А может, шофёр грузовика поверил в чью‑то болтовню или вообще все выдумал? Как глупо! Особенно если мою поросшую колючим ёжиком голову хватит солнечный удар».
Я расстегнул пуговицы ковбойки и громко, во всю глотку, начинаю орать: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой чёрною, с проклятою ордой!»
Черные брюки давно поседели от пыли, в горле першит. «Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя привозил…» Неужели я не прошёл ещё и трети пути? Солнце не думает спускаться с белесого неба. Ковбойка прилипла к лопаткам. Некоторое время бреду молча. Потом снова запеваю: «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных…» — и чувствую на губах резкую, раздирающую боль, дотрагиваюсь до них пальцами, тотчас отдёргиваю руки. Губы мои покрылись толстой коркой, растрескались.
Читать дальше