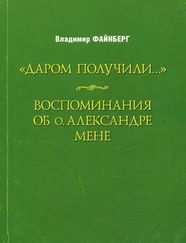Владимир Файнберг
Стихи последних лет
Кто в 70 лет
переплыл Гибралтар
а после него Ла Манш,
тот на поверку совсем не стар,
ему тридцати не дашь!
Кто делал это
только в мечтах –
тоже большой молодец.
мечты о покое
развеял в прах.
Плывет из конца в конец!
Когда-то я Волгу переплывал
туда и еще назад,
поскольку там брюки с рубашкой лежат,
без них не войдешь в Сталинград.
А в прошлом году
Адриатикой плыл
от Итальянской земли.
Один во всем утреннем море я был,
дельфины меня стерегли.
Теперь, когда стукнуло
70 лет,
знает трехлетняя дочь,
пусть ее папа и хром, и сед,
его не накрыла ночь.
Если бы был под рукой океан,
встал бы на берегу
и выпил вина последний стакан.
За что – сказать не могу.
Возле яхт и мимо джаза,
возле труб, лебёдок, чаек,
возле арии Карузо,
возле трапа сухогруза
набережная качает.
Мимо солнца, мимо тени,
а верней, из солнца в тень,
как качели, как смятенье,
молодости возвращенье.
Остальное – дребедень.
Мимо лени всех кофеен,
где на солнце старики
в белых креслицах стареют,
а напротив флаги реют,
пароходные дымки.
Мимо запахов канатов,
мокрых якорных цепей.
Я их помню, знал когда-то...
Бело-синий флаг Эллады
не уходит из очей.
Крабы, ракушки, макрели
брошены в садках на мель.
Я прошлялся день без цели.
Есть ли в жизни лучше цель?
Марина,
одного мне жалко –
что ты залив не видишь.
С двух сторон
маяк и проблесковая мигалка
пульсируют друг с другом в унисон.
Весь звёздный сонм
над средиземной ночью
вздыхает, как мигалка, как маяк.
Корабль какой-то
ярким многоточьем
проходит к близкой Африке
сквозь мрак.
В ночи не видны
ярусы прибоя.
Но при внезапных
вспышках маяка
они видны.
Точь-в-точь, как мы с тобою
видны друг другу,
пусть издалека.
Внезапно сердце
о тебе заплачет
и чуть затихнет,
чтоб заплакать вновь.
И если это
ничего не значит,
то что же называется любовь?
Заговорил я языком Гомера –
апопси, калинихта, калимера.
И самого себя мне слышать дико,
когда со мной толкует Эвридика.
Я говорю ей, улыбаясь криво,
о том, что симера немного крио.
Она же говорит: «Кало! Кало!»
Да, ей «кало», в её дому тепло.
Ловлю кефаль я, стоя на причале.
– Владимирос! – зовёт меня Пасхалис,
кричит, мешая греческий с английским,
что хочет мне поставить стопку виски.
А я в ответ, мол, сенькью, эвхаристо!
Клюёт. Я не могу покинуть пристань.
По вечерам дев старых взгляды, вздохи.
Но непреклонно говорю я: – Охи!
Живите в мире,
кириос, кикири!
Когда покину остров сей Скиатос,
я с борта корабля скажу вам: – Ясос!
Скутер тянет за собою
пенный след.
Жалко, что таких обоев
в мире нет.
У меня бы во всю стену
шли бы скутера,
за собой тянули пену
с самого утра.
На стене второй, красиво
избочась,
шли бы яхты вдоль залива
всякий час.
На стене на третьей просто –
синий окоём,
и под солнцем виден остров
с маяком.
А стены четвёртой нету,
там окно.
За которым вплоть до лета
снег, темно...
Зима. И люди со своими нуждами
виднее Богу.
Метёт метель над полем, над старушкою,
одолевающей дорогу.
Дымки деревни воздымают руки
в немой молитве
о торфе, о дровах… И эти строки
средь снежных рытвин
бредут с обугленной от горя беженкой.
ведущей за руку ребёнка,
что разрумянился, как вишенка,
до плеч закутан шалью тонкой.
Бредут с надеждой к далям города.
А там в подземных переходах
слепцы, терзаемые голодом,
бомжи и нищие – невпродых.
И эти строки с ними молятся,
не у людей – у Бога просят.
Метель кружит у моего лица,
не отличишь - где снег, где проседь.
А я любил её всю жизнь,
Взаимностью не одарила.
Скажу: спасибо, не убила.
А я любил её всю жизнь.
За человека не считала.
И дыры нищета считала.
Подонкам отдавала тело,
любви моей не захотела.
А я любил ее всю жизнь,
Теперь она в грязи, в позоре.
Я греюсь у чужого моря.
Плохой приёмник очень редко
доносит голос до меня.
Шкала частот и волн, как клетка.
А он звучит, звучит, маня…
Читать дальше