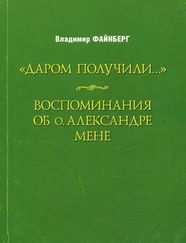Вдалеке, справа и слева от дороги, маячат два низких столбика. Я дотаскиваюсь до них, с трудом передвигая ноги. На каждом прибита фанерка, и на ней почти свежей краской начертано: «МИНЫ».
Опускаюсь на пыльный бугорок у основания правого столбика, рассудив, что уж под ним‑то мин наверняка нет. «Что же здесь творилось, что ещё целые поля заминированы?» Сдираю ковбойку, набрасываю её на пылающую голову и краем глаза улавливаю какое‑то движение. Большая серая змея с дрожащим язычком ползёт, струится, пересекая дорогу.
Через секунду я уже иду не оглядываясь. Иду, облизывая кровоточащие, покрытые коростой губы. Вскоре встречаю ещё одну гадюку. Гадина греется в пыли прямо посреди дороги. После минутного колебания обхожу её слева, зайдя на несколько шагов в поле, есть там мины или нет — не знаю.
Дорога приводит к полуразбитому мостику через сухую балку. Сажусь на него, свесив ноги. Сухая балка, совсем сухая. А прошлый год, примерно в это время, я ездил в Серебряный бор, купался в прохладе Москвы–реки, несколько дней назад пересекал Волгу, миллионы кубометров пресной воды… Отдохнув, иду дальше, иду как заведённый, потеряв чувство времени. Даже пить уже не хочется. Из небытия возвращает чей‑то голос.
— Серый! Серый!
Справа, далеко–далеко в знойном мареве, мелькает фигурка скачущего коня. Наверное, ноги его спутаны. Конь скачет неуклюже, как‑то боком.
Скольжу равнодушным взглядом по этой недоступной для меня тяге и бреду дальше.
— Серый! — вдалеке возникает бегущий мальчишка. — Серый!
Все это — и мальчик, и конь — как на другом конце света. И когда в небо ударяет взрыв — это кажется неправдоподобным, как мираж.
Земля дрогнула. Долетел слабый гул. И снова звенящая тишина. Коня словно не было. Только убегающая за горизонт фигурка мальчика…
«Вставай, проклятьем заклеймённый, — хриплю я, — весь мир голодных и рабов…» Пою «Интернационал», одолеваю пространство, которому нет конца. Солнце уже сильно клонит к западу.
Через час, а может, через три впереди показывается что‑то вроде верхушек деревьев.
Впервые познаю, что последние километры — самые длинные. Когда вхожу в станицу, тени уже большие, вечерние. Да, это Степановская. Вон за тем забором должен открыться поворот в проулок. Вот он. А вот и плетень бабушки Шуры. Тропинка к колодцу.
Налегаю на железную ручку ворота. Помогаю себе всем телом, выкручиваю наверх полведра, подчаливаю его на край колодезного сруба, накреняю и, обливаясь, пью это мокрое, это холодное…
Хватает сил войти в сени. Бабка испуганно вглядывается, бросается навстречу, потом кидает на сундук что‑то мягкое, рваное. Я валюсь и последнее, что чувствую, — шнурки расшнуровывают, снимают с распухших ног ботинки.
1
Однажды рано утром уже в начале февраля прозвенел телефон, и в трубке раздался голос Нурлиева:
— Что делаешь? Спишь?
— Не сплю, Тимур Саюнович. Я вас узнал. Все жду обещанного письма…
— Слушай, я сейчас к тебе приду. Можно?
— Так вы в Москве?
— Минут через двадцать буду. Адрес у меня есть. Выходи встречать.
Положив трубку, я глянул на часы, потом кинулся на кухню, включил свет, открыл холодильник. Кроме пяти сморщенных сосисок, пакета молока, яиц и начатой банки чешского паштета, там ничего не было.
Мать ещё спала в своей комнате.
Я обдал сосиски горячей водой из‑под крана, содрал с них целлофановую оболочку, нарезал на тонкие кусочки, бросил на раскалённую сковородку со сливочным маслом, потом залил все это взбитыми яйцами. Поставил чайник на газ.
Вернувшись в комнату, ужаснулся. Давно пора было делать ремонт: обои на стенах пооборвались, выгорели, по потолку змеились трещины, паркет нуждался в циклёвке.
«Наверное, только что прилетел, голодный. Неужели ему не забронировали номер в гостинице? В крайнем случае буду спать в кухне на раскладушке, а ему предоставлю комнату».
Я перенёс со стола на подоконник кринум, с которым за время упражнений успел чуть ли не сродниться. В тот момент, когда позвонил Нурлиев, я как раз занимался с растением. «Интересно, что бы сказал Тимур Саюнович, если бы застал меня за этим занятием?»
Надев пальто, кепку, выключил газ под сковородкой с омлетом и вскипевшим чайником, выбежал на улицу.
Был хмурый час московского зимнего утра, когда, кроме дворников с их скребками и редких ещё автомашин, ничто не нарушает тишины кварталов.
Я стоял на углу своего дома у проезда во двор. Сквозь пелену медленно падающих хлопьев снега то тут, то там загорались окна. Казалось, слышен разноголосый хор будильников, вырывающих людей из сна.
Читать дальше