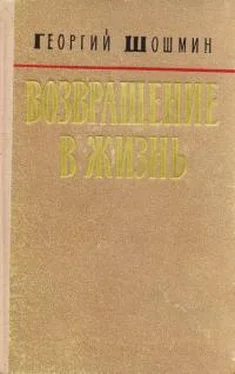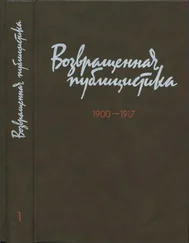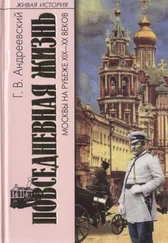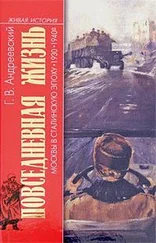Сухие полные губы Мещерякова подобрались. На скулах натянулась синеватая, выбритая кожа. Он крепко ударил кулаком о кулак.
— Я так и думал....
Поздоровавшись с пришедшим на смену Славинским, Алексей Тихонович пригласил его перейти из приемной в ординаторскую. Там он рассказал о Новикове и с грубоватой нетерпеливостью спросил:
— Не кажется тебе, что ты просто вытолкнул его в неизвестность?
— Глупости. — Не поднимая головы, Славинский невозмутимо улыбнулся, продолжая просматривать последние записи в журнале дежурного врача.
— Нет, не глупости, — резко возразил Алексей Тихонович. Он захлопнул журнал, и Славинский медленно поднял голову. — Несколько раз я внимательно наблюдал за Новиковым, когда он лежал в отделении. У него было явно депрессивное, подавленное состояние. Я же говорил тебе... Да я и сам принимал его, и видел его документы. У него очень плохое положение.
— Больница — лечебное учреждение, но не собес,— четко, разделяя каждое слово, произнес Петр Афанасьевич и согнал со своего лица обычную улыбку. Он снял очки, положил их на журнал, сводя и разводя черные роговые дужки. — Врачебный долг по отношению к Новикову я выполнил добросовестно. А заниматься устройством его жизни врач не обязан.
Подхватив последние слова, Мещеряков заговорил громче. Голос его стал доноситься из ординаторской в приемную комнату:
— Да, формально ты не обязан заниматься устройством жизни больного. Но по существу... по совести — ты неправ, Петр!
Всей душой Леля принимала сторону Алексея Тихоновича. Она подумала, что в эту минуту Мещеряков, наверно, сжал свои большие кулаки и в порыве возмущения грозит бледному Славинскому.
— Я знаю, что ты возразишь мне, Петр. Для врача самое главное — вылечить больного, — слышался в приемной комнате голос Мещерякова, сопровождаемый стуком его тяжелых шагов. — Но скажи, скажи, разве не должно беспокоить меня, что излечившийся больной может после выписки попасть в такие условия, которые будут постоянно травмировать его психику, и это даст рецидив, новое обострение? Борьба с алкоголизмом это одновременно и профилактика против увеличения психических заболеваний.
Алексей Тихонович сказал совсем тихо:
— Почти все поступающие к нам алкоголики с ужасом думают о будущем. У многих нет ни одежды, ни семьи, ни работы. Судьба почти каждого из них — чудовищная трагедия...
Чего ты хочешь? — вздохнул Славинский, продолжая играть дужками очков. — Слушай еще раз: я добросовестно выполнил свой врачебный долг и спас Новикова.
— Спас ли ты Новикова? — Алексей Тихонович отобрал у Славянского очки. — Перестань играть, Петр!.. Ты вернул ему психически сознательную жизнь. И только! А этого — мало. Его надо полноценным человеком возвратить в жизнь... Ты подумал — что он будет делать дальше? Не поступит ли к нам через несколько дней снова в таком же, если не в худшем, состоянии?
— Мне начинает надоедать этот разговор. — Петр Афанасьевич взял у Мещерякова очки, встал и направился к выходу. — Новиков — твой сват, брат, родственник или хороший знакомый? Что ты так печешься о нем?
Алексей Тихонович остановил его, порывисто схватив за руку:
— Понимаешь, что ты сказал? Как у тебя, Петр, язык повернулся? Да Новиков для меня, как должно быть и для тебя, пусть даже совсем опустившийся, но наш — понимаешь ты! — наш человек...
Славинский отцепил руку Мещерякова. Улыбнувшись одними глазами, он наклонился к его уху и таинственно прошептал:
— Так разрешите доложить вам, что перед выпиской вот этим, вот, самым нашим человеком очень и очень интересовалась милиция... Дискуссию считаю оконченной.
— Думаю, что нам придется продолжить ее! — крикнул Алексей Тихонович ему вслед. — Когда Новиков поступит вторично!
Алексей Тихонович Мещеряков и Петр Афанасьевич Славинский были однокашниками и большими друзьями. Койки их в студенческом общежитии стояли рядом, вместе они пользовались одними книгами и одним выходным костюмом, вместе мечтали о большой науке.
Защитив диплом, Алексей Мещеряков с юношеской наивностью решил, что главный труд позади. Теперь осталось только написать диссертацию, и он — уже в науке.
Может быть, он и не очень виноват был в том, что понятие наука начиналось для него с кандидатской степени, а не с воспоминаний о титаническом труде Павлова, о черной работе Пирогова в осажденном Севастополе, в зараженном холерой Петербурге. Может быть, при выпуске из института мысли его непрестанно вертелись вокруг кандидатской степени еще и потому, что без всякого злого умысла уважаемые профессора своими рассказами, а порою и личным примером, значительно больше искушали студентов профессорской кафедрой, чем рассказами о равной героическому подвигу жизни Пирогова.
Читать дальше